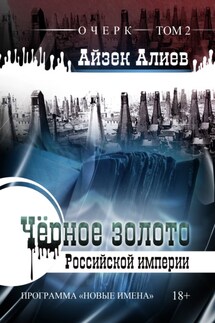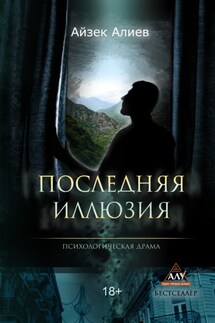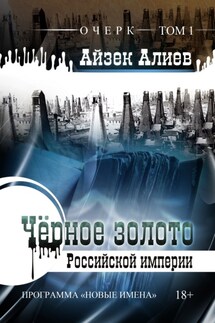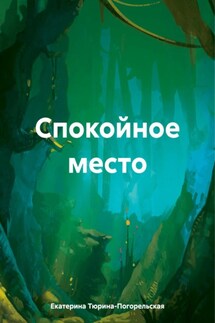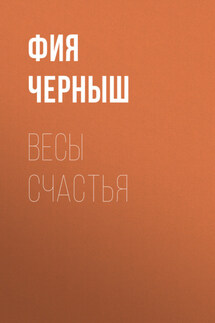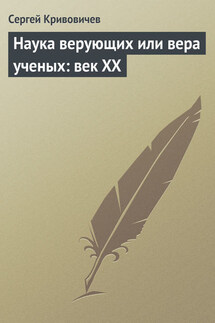Последняя иллюзия - страница 2
Высота потолков на первом и втором этажах составляла пять метров и уменьшалась до четырёх на третьем этаже. Толщина стен на первом этаже равнялась полутора метрам и также постепенно утоньшалась по высоте. При строительстве дома, который был сооружён из крупного, хорошо окатанного речного галечника, использовался специальный раствор из сырого яичного белка, пива и песка. Такой необычный состав придавал ему особую прочность, благодаря чему здание отпраздновало своё столетие и не собиралось останавливаться на достигнутом. Уникальные материалы и детально продуманный план способствовали тому, что в квартирах зимой всегда было тепло, а летом прохладно. Жители до сегодняшних дней пользуются роскошными каминами, выложенными разноцветным кафелем, и имеют возможность любоваться оригинальной лепниной с ангелочками и розочками на стенах и потолках. Фасад дома также был искусно декорирован и производил сильное впечатление. Вход во внутренний двор соорудили в форме большой арки, в верх которой вмонтировали вензель – фирменный знак строения. Красивые железные ворота со сложным рисунком всегда запирались на ночь.
Однако вся эта помпезность быстро улетучивалась, едва вы попадали через в арку во двор. Здесь, прямо вдоль арочной стены, стояли большие уродливые чёрные ящики для мусора, в которых по ночам шуршали гниющей бумагой мерзкие грызуны. Тем, кто боялся крыс, приходилось буквально пробегать это место. Далее арка заканчивалась, и открывался большой двор.
Дворы такого типа почему-то называли «итальянскими». Поговаривали, что в Италии строили точно такие же, но в это с трудом верилось. Анфилады огромных залов были перекроены и разделены многочисленными коммунальными перегородками, в которых ютилось безвестное количество народа. На всех этажах были устроены открытые балконы общего пользования, тянущиеся вкруговую. На перекинутых верёвках со второго по четвёртый этажи всегда висело сохнущее бельё. Жители первого этажа, не имеющие балконов, вешали его прямо посреди внутренней территории, что мешало местной детворе свободно бегать и играть. Народу было много, все были бедны, но жили честно и весело. Отдельные неприятности случались разве что на бытовой почве – между соседями или пьяным мужем и неверной женой, что ни в коей мере не омрачало общей радужной атмосферы.
Местная детвора обожала носиться по двору, по всем балконам и даже по крыше. Сердитые тёти и дяди вечно ворчали вслед шумным и счастливым сорванцам.
Среди них были неразлучные друзья – Рафик, Армен, Володя и Иосиф. Все они родились здесь и начали дружить с тех пор, как научились ходить и говорить. Для Баку такие компании вообще были очень характерны – весь город слыл суперинтернациональным. Старое поколение советских людей наверняка помнит бытование такой странной нации, как «бакинцы», хотя в те времена никто не задумывался над понятиями «нация» и «национальность». Всё было общим, советским.
Во дворе четырёх друзей-малышей прозвали «мушкетёрами».
– Вон, мушкетёры идут! – кричали им вслед младшие ребята.
Друзья ходили в школу, расположенную поблизости от дома, и учились в одном классе. Как водится, здесь тоже были «элитные» группки из четырёх-пяти девчонок и мальчишек. Разумеется, «мушкетёры» тоже входили в одну из них и верховодили всем классом. Мальчики ухаживали за девочками из «элиты», а все остальные, «простые» одноклассницы плакали из-за мальчишечьих выходок. Обычно после выбора объекта травли начинались садистские сценки с присущей детям неосознанной жестокостью.