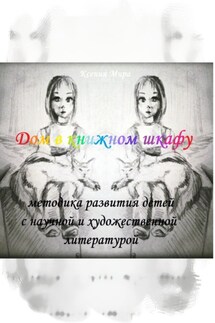Последняя утопия. Права человека в истории - страница 21
По контрасту с этими примерами в период, предшествовавший Второй мировой войне, сражения на домашних фронтах – в отличие от призывов к «гуманности» за границей и попечения о меньшинствах в отсталых странах – гораздо чаще были связаны с обращениями к правам личности. Такая разница обусловливалась тем фактом, что во внутренней полемике можно было принимать как должное уже сложившееся пространство инклюзивного гражданства, в котором притязания на права могли наделяться смыслами. В одном из очень редких англоязычных упоминаний о правах человека, прозвучавших до 1940‐х годов, сенатор от штата Массачусетс и лидер радикальных республиканцев Чарльз Самнер вскоре после Гражданской войны в США отмечал: «Наша война означает, что институты этой страны навеки посвящены Правам Человека, а Декларация независимости есть вовсе не обещание будущего, но свершение настоящего»56. Внутриполитическая борьба не разорвала, а укрепила связь между принципами прав и основаниями суверенности и, подобно революции, все еще могла выливаться в насильственные формы.
Все случаи борьбы, нацеленной на обретение новых прав или наделение ими новых групп, с предельной ясностью иллюстрируют этот тезис. Требования революционной эпохи о включении женщин в состав человечества – и, соответственно, в состав политии, – излагаемые, в частности, в трактатах «Декларация прав женщины и гражданки» Олимпии де Гуж и «В защиту прав женщин» Мэри Уолстонкрафт, являются классическими иллюстрациями сказанного. Женское движение, на формирование которого ушли последующие полвека, поставило права в центр всей своей деятельности. Причем первейшим правом в его повестке значилось гражданское право участвовать в выборах. Несомненно, начиная с Уолстонкрафт, феминистская адвокация расширяла свои горизонты: когда после Первой мировой войны женское население англо-американского мира получило доступ к избирательным урнам, движение занялось социальными правами женщин и упрочением их гражданского статуса. Учитывая ту уникальную роль, какую женщины играют в репродукции и воспитании детей, активистки начали настаивать на том, что государство должно не ограничиваться инклюзией, выражавшейся в приобщении к выборам, а заняться всеми вездесущими структурами женской зависимости. Но подобное углубление и упрочение предпосылок гражданства не означало тем не менее автоматического расширения его границ.