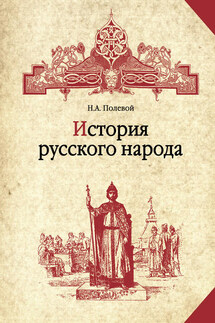Последняя утопия. Права человека в истории - страница 44
Принятие Всеобщей декларации, состоявшееся 10 декабря 1948 года, стало, несомненно, выдающейся победой дипломатического консенсуса, который вполне могла сломать нарастающая глобальная напряженность – помимо начала холодной войны, достаточно упомянуть хотя бы образование государства Израиль и раздел британской Индии. Но, какой бы значимой в конечном счете ни сделалась Всеобщая декларация в позднейший период, обращение к ее дипломатическим и идеологическим истокам не может не включать в себя поиск ответа на интересный и важный вопрос: почему все-таки язык прав человека на тот момент остался периферийным явлением, причем не только на своей первой, американской родине, но даже и на второй, будущей европейской родине, не говоря уже о мире в целом? Рассуждая об этом сюжетном узле, приходится признать: загадка 1940‐х состоит не в том, почему права человека появились на свет, но – учитывая всю последовательность дальнейших событий, – в том, почему их рождение обернулось неудачей.
Первая, хотя и не основная, причина состоит в замкнутости проблематики прав человека внутри структур и процессов самой ООН, которая сохранялась на протяжении десятилетий – причем независимо от того, говорим ли мы о межгосударственной дипломатии или о работе частных ассоциаций. Даже когда Комиссия по правам человека перешла к каталогизации прав, она сразу же заявила о том, что составляемый список будет лишь декларативным. Важным штрихом, характеризующим функции Комиссии, стало принятое летом 1947 года категоричное (non possumus) решение Экономического и Социального Совета ООН, согласно которому Комиссия лишалась полномочий предпринимать расследования или какие-то иные действия в отношении получаемых ею петиций и обращений. Как с горечью отмечал Хамфри в известном комментарии, это сделало Комиссию по правам человека «самой роскошной во всем мире корзиной для бумаг». Ограничению прав человека чисто символической значимостью, на чем настаивала ООН, зачастую приписывают роковую роль в их последующем неправильном развитии, но в действительности описанное положение вещей стало естественным следствием принятия такого Устава, который, упомянув о правах человека, настолько беспощадно выхолостил присущий им смысл, что заново активировать их можно было лишь при условии полного пересмотра фундаментальных принципов всей международной организации. Лучше всех это поняла индийская делегатка Ханса Мехта – интересная деятельница, отстаивавшая также гендерную нейтральность будущей Декларации; именно она вынесла на рассмотрение ООН проваленное делегатами предложение о том, чтобы сделать права человека «неотъемлемой частью Устава и… фундаментальным законом». На возрождение такого подхода, пусть даже лишь концептуальное, позже ушли многие десятилетия119.
Справедливости ради следует сказать, что приоритет, отдаваемый декларативным, а не юридическим правам, все-таки сулил их дальнейшую легализацию, поскольку на такой сценарий были настроены и США, и СССР. И все же первый после принятия Всеобщей декларации набросок пакта о правах – на его подготовку ушло двадцать лет – появился на свет только после того, как советская делегация приостановила свое участие в деятельности Комиссии по правам человека. Это произошло в начале 1950‐х, после отказа большинства в ООН передать кресло Китая, занимаемое представителем партии Гоминьдан, победившим китайским революционерам. Состоявшаяся размолвка позволила завершить разработку проекта в короткие сроки, пусть даже подготавливаемая версия все больше отождествляла заложенную в ней трактовку прав с их западным видением. Первоначально пакт, подобно современной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, ограничивался политическими и гражданскими правами. Однако этот прогресс на одном уровне был уравновешен откатом на другом уровне: права человека ничуть не помогали преодолеть пропасть между соперничавшими идеологиями послевоенного времени. Как отмечал Шарль Малик, советский уход, несмотря на его «очевидное благо», одновременно подорвал притязание идеи прав человека стать «первейшим делом современного мира». Развернувшаяся вместо этого ее бескомпромиссная вестернизация означала не новый этап развития, а «стыдливое бегство» от важности и значительности