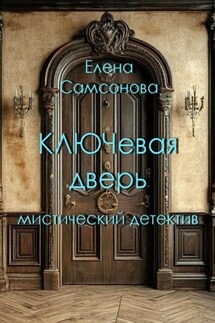Последняя утопия. Права человека в истории - страница 42
Хотя двадцать лет спустя франко-еврейский юрист Рене Кассен был удостоен Нобелевской премии мира, в настоящее время мы знаем, что вклад этого центрального европейского эксперта, участвовавшего в разработке проекта декларации, меркнет на фоне вкладов других участников113. Кассен, выдающийся человек, которого, впрочем, трудно назвать глубоким мыслителем, начал свою агитацию за более гуманный послевоенный порядок, основанный на правах, еще осенью 1941 года, на совещании союзников, состоявшемся в лондонском Сент-Джеймсском дворце, где он представлял свою оккупированную страну как патриот и гуманист. К тому моменту он горячо обличал тоталитаризм, используя папские образы гипертрофированно разросшегося государства, противовесом которому представали нерушимые права личности. В первые послевоенные годы Кассен возглавлял Всемирный еврейский союз (Alliance Israélite Universelle), известную франко-еврейскую правозащитную организацию, вместе с которой разделял быстро утвердившуюся риторику универсальной жертвенности тех, кто пострадал от нацизма. Как бы то ни было, следуя традициям французского республиканизма, он в целом был готов согласиться с коммунитаристскими установками своих коллег по редакционному комитету114.
Шарль Малик был, пожалуй, ключевой фигурой в переговорах, предшествовавших обнародованию Всеобщей декларации. Прежде чем стать выдающимся дипломатом, этот ливанский христианин, который в нацистские годы учился у Мартина Хайдеггера, защитил диссертацию в Гарвардском университете. После войны Малик обратился к идеологии христианского персонализма, которая поддерживала его твердые антикоммунистические убеждения и надежды на светлое христианское будущее как для Ближнего Востока, так и для всего мира. Благодаря именно ему «человеческая личность» («human person») Маритена стала главным протагонистом Всеобщей декларации. По словам Эдварда Саида, его родственника, который благоговейно внимал Малику в те годы – по крайней мере, до тех пор, пока его не отвратил христианский антикоммунизм наставника, – Малик полагал, что превознесение личного достоинства и личных прав повлечет за собой не слияние всех мировоззрений воедино, а «столкновение цивилизаций, войну между Востоком и Западом, коммунизмом и свободой, христианством и всеми прочими, менее значительными религиями»115.
В свете современных веяний глобалистские и поликультурные истоки Всеобщей декларации легко можно переоценить и преувеличить. Разумеется, не вызывает споров, что перечень пунктов, внесенных в декларацию, был основан на национальных конституциях со всего мира, в том числе, что особенно примечательно, латиноамериканских; однако сами эти документы с давних времен отражали, прежде всего, распространенность европейских практик. Обсуждения прав человека в рамках местного конституционализма и вытекающие из них попытки уточнить понятие гражданства наблюдались во многих частях света, и не в последнюю очередь в Латинской Америке; тем не менее за многие годы нигде в мире так и не был разработан какой-то дополнительный и столь же популярный дискурс международных прав человека. Аналогичным образом надо оценивать как не слишком заметное и участие в подготовке черновых набросков декларации небольшой группы нехристиан (помимо Кассена, среди них выделялся Пенг-Чун Чанг, представлявший китайское правительство партии Гоминьдан и ранее защитивший диссертацию по философии в Колумбийском университете под руководством Джона Дьюи). Позже, когда на Генеральной Ассамблее ООН начались долгие дебаты, предшествующие принятию декларации, в исходный проект были внесены лишь незначительные изменения. Дипломатическая линия латиноамериканских государств в этих дебатах, особенно внятно отстаиваемая Кубой, заключалась в том, чтобы привести новую декларацию в соответствие с Американской декларацией прав и обязанностей человека, принятой в Боготе весной 1948 года. Комментируя развернутую латиноамериканцами кампанию, Хамфри сетовал: «Прозвучавшие речи настолько были пропитаны духом социальной доктрины католицизма, что временами казалось, будто главными действующими лицами в конференц-зале оставались католики и коммунисты, причем последние очень сильно уступали первым»