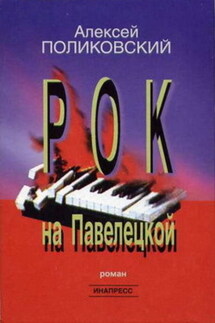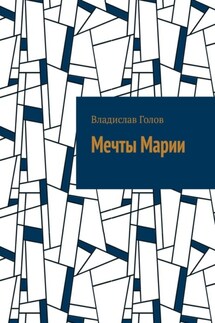Потерянный во времени. И другие истории - страница 11
– Значит, не будете писать?
– Нет, – просипел я пересохшим горлом, чувствуя, как по бокам течёт липкий пот, пот страха. – Подвиньте мне мой кофе, пожалуйста. Спасибо, так. Собственно, уверяю вас ещё раз, я уже всё рассказал. Он засмеялся. – История рассады, дерзнувшей подумать о побеге… Овощ Господа Бога попытался стать героем.
– Да, но всё-таки должен быть конец, – сказал я.
– Конец, длящийся уже лет десять, сидит перед вами. Они вытолкнули меня назад, в неизменность, вот и всё, – сказал он с изящной улыбкой человека, любящего парадоксы. – Ну хорошо, вот настоящий конец. Последняя серия, после которой мне уже нечего будет сказать. Возможно, лишняя. Слушайте.
Он наслаждался своим мастерством рассказчика.
Через два дня я уже был в трёхстах километрах от Вьентьяна, в городе Фонгсали. Это крошечный городок в лаосских джунглях. Консул начал действовать: я был направлен туда в срочную командировку переводчиком при трёх инженерах, приехавших в Лаос из Ленинградской лесотехнической академии. Это была маленькая ссылка, за которой должна была последовать другая, окончательная…
Рядом с городком советские специалисты построили для друзей-лаосцев лесопилку, крупнейшую в мире (или в Азии? Забыл). Но было два обстоятельства, помешавших ей перепилить на дрова все леса Лаоса. Первое состояло в том, что наши специалисты намеревались пустить на распил дерево-рыбку. Оно называется так потому, что силуэт на распиле напоминает рыбку. Может быть, они не прислушались к тому, что говорили им местные жители, а может, Дух Лаоса отомстил им за европейское высокомерие или русское чванство – но вскоре они обнаружили, что из дерева-рыбки нельзя строить дома, ибо оно вызывает у людей чесотку. Второе обстоятельство состояло в том, что они забыли построить очистные сооружения. И щёлочь, которая так обильно используется на лесопилках, потекла в речушку, из которой крестьяне и жители Фонгсали берут воду. Речушка впадает в Меконг, а он, как известно, течёт по всей юго-восточной Азии. Лаосцы взмолились, вопрос решался чуть ли не самим Брежневым. Ленинградцы, к которым я был прикомандирован, ставили неудавшуюся супер-лесопилку на консервацию, утрясали последние дела – и пили. Я тоже пил с ними. Их жизнь в Лаосе кончалась, моя тоже. Жили мы все четверо в большом зале местной гостиницы – бывшего публичного дома. Это было уже как бы преддверие Родины.
Начинали мы с утра. Орали друг на друга, матерились. Немногочисленный персонал гостиницы боялся входить в зал. Бельё нам не меняли вторую неделю. Когда самогон кончался, я садился на японский мопед, который подобрал на лесопилке, и, укрепив на багажнике бак, ехал на окраину, в лавку, за новой дозой. Голый, в одних трусах, я бесстрашно носился по окраинам. Однажды во власти хмеля помчался по первой попавшейся дороге. Её прямизна привела меня в ярость. Я ржал, выл, хохотал и прибавлял газ. Вдруг на обочине я увидел трех мужчин с винтовками в руках. Нет, это были не страшные повстанцы патикане, а крестьяне из деревушки, вышедшие защищать её. Здоровые мужики, черноволосые, босые. Я подлетел к ним, намереваясь круто развернуть и мчать назад – но не удержался и грохнулся на повороте, вздымая облако красной непроницаемой пыли. Помню их недоумённые лица, кашель и собственное неудержимое хихиканье… В другой раз, бросив мопед на обочине, я неизвестно зачем ушёл в джунгли и лазил там по деревьям, на каждой ветке которых мог возлежать питон, переваривавший телёнка. Меня обуревал восторг. Потом – провал.