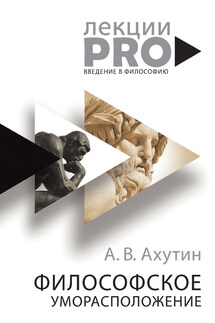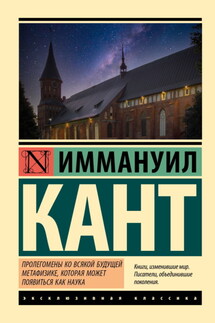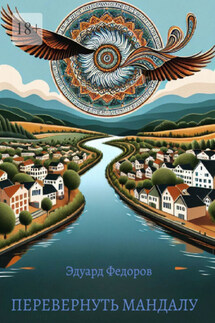Поворотные времена. Часть 1 - страница 45
Как бы там ни было, универсалистские претензии философии никто не отменял и не ставил под подозрение на протяжении веков. Именно эта претензия и стала источником самых традиционных ее дефиниций. Вот, по случаю, пара таких определений. Филон Александрийский (I в.), знаменитый «синтезатор» эллинской и иудейской мудрости: «Философия – служанка (рабыня) мудрости (софии)… София же есть знание божественных и человеческих (вещей) и их причин» (De congressu eruditionis gratia, 80). А вот XII в., эпоха аккуратнейших различений и определений. Перед нами словно точный – разве что без всяких «служанок» – перевод этой дефиниции на латынь схоласта Гуго Сен-Викторского: «Philosophia, – определяет он, – est disciplina omnium rerum humanorum atque divinarum rationis plene investigans. (Философия есть наука, отыскивающая полное основание как всего человеческого, так и всего божественного)»46.
He станем множить свидетельства, это достаточно устойчивая характеристика. Философия рассматривает некоторым образом все, говорит обо всем. Тем более важно уяснить, каким именно образом и как это вообще возможно говорить обо всем – божественном и человеческом, теоретическом и практическом. Каким же это образом мы можем иметь дело со всем? Как именно ум собирает, сводит и дополняет многое кое-что во все. Здесь-то и начинаются трудности и расхождения.
Ведь то, с чем мы имеем дело, о чем мы заводим речь, само входит в наше дело и отвечает нам, сказывается исключительно сообразно и соответственно тому, как мы говорим, как мы имеем с ним дело и какое это дело. (Этим же «как» определяются и многообразные способы утратить свой предмет или подменить его другим.) Или философская мысль действительно лишена формы и образа, и мы можем уповать на универсализм бездельного «созерцания» и будто бы все в себя вмещающего молчания, увиливая таким нехитрым способом от суровой необратимости дела и строгой ответственности определенного слова? Искусство, наука, религия, тоже вроде бы касающиеся «природы вещей», требуют и особых даров, и специфического труда, и строгой в разном отношении аскезы. На что же рассчитывает философия, и не рассчитывают ли получить от философии все это – божественное и человеческое – сразу и даром?
Мы хотели войти в дело философии, отталкиваясь от «самих вещей», и нашли, что собрать их в их бытии можно только в разумеющем уме. Ho как это собрание происходит? Как разумеет разум? He отталкиваемся ли мы снова от самих вещей к логике разумения, мышления? Ум вбирает в себя определенный логос, которым все определенным образом собирается воедино.
Мы уже отмечали, что греческое слово λόγος имеет этот смысл: собирание47, разбирающее, отбирающее собирание, можно сказать, упорядочивание, устроение (по-гречески – κοσμήσις). Как возможно устроить порядок из беспорядка – вот чем занимается