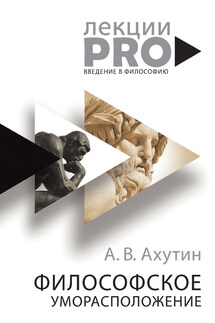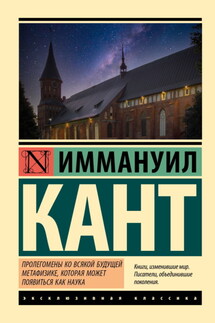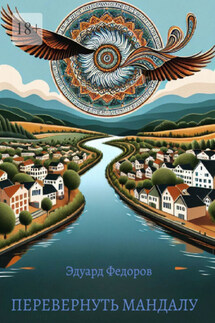Поворотные времена. Часть 1 - страница 48
Мы можем вспомнить, как превращались заново открытые «сами вещи» в «causa sui» Спинозы, «монады» Лейбница, «вещь в себе» Канта, «дух» Гегеля. Гегель, в частности отталкиваясь во Введении к «Феноменологии духа» от Канта, который-де на пути к вещам увяз в исследовании познавательной способности, зовет смело входить в познание самих вещей. «Когда я мыслю, – пишет он в 1-м т. „Энциклопедии”, – я отказываюсь от своей субъективной особенности, погружаюсь в предмет (vertiefe mich in die Sache), предоставляю мышлению действовать самостоятельно, и я мыслю плохо, если я прибавляю что-нибудь от себя»52.
Сам Гуссерль полагает, что эпохально отстраняет эти учения, и в идее всеобщей феноменологии снова видит путь возвращения zur Sache selbst.
Чем же определяются столь радикальные расхождения в самом радикальном: что такое то самое, чем занимается мысль, – то самое, что занимает мысль у нас для себя и впервые делает ее самой собой? Как относится к делу мысли само это изначальное, радикальное – онтологическое – расхождение эпохальных философий в самоопределении и определении самих вещей? He здесь ли то самое перепутье, на котором они также и сходятся, могут сойтись? Вот в чем вопрос, который встает перед нами.
Входя – сегодня – в философию, мы подходим к этому перепутью, входим в спор онтологических эпох, в спор эпохально-из-начальных допущений мысли и бытия, допущений, допускающих мысль и бытие к самим себе и друг к другу. Может быть, этот спор и есть – сегодня – само дело философии, которая есть дело самой мысли.
До сих пор европейская философия – и на Западе, и на Востоке – обходилась тем, что так или иначе могла встроить все свои приключения, падения и возрождения, вариации и метаморфозы, все эпохи своей истории в один э о н, определяемый в конечном счете единым пониманием (и множеством непониманий) смысла философского дела и того, о чем это дело ведется. По сей день одним из наиболее продуманных способов такого встраивания остается история философии Гегеля. Когда нынче предшествующая философия на разные лады отстраняется от дела, она также упаковывается в один футляр (субстанциализм, платонизм, лого-центризм).
М. Хайдеггер, например, видит в истории европейской философии изживаемую судьбу метафизики, метафизического оборота изначальной мысли, или превращения платонизма. Превращением платонизма оказывается и новоевропейская метафизика субъективности. Своих пределов, предельных возможностей метафизика (в форме метафизики субъективности) достигает у Ницше и Маркса. Уверенно вписывает Хайдеггер и феноменологию Гуссерля в то самое понимание дела и задачи философии, для которого die Sache, то, что ее по сути дела занимает, есть die Subjektivität – субъективность. Этим, по мысли Хайдеггера, вообще исчерпываются возможности философии как метафизики и открывается собственная