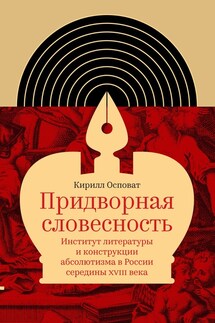Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - страница 20
Какого рода «книги <…> различнаго содержания» имелись в виду, можно заключить из более конкретных инициатив Разумовского. Еще в конце 1747 г. Академия выпустила в свет роман Фенелона «Похождение Телемака, сына Улиссова» в переводе А. Ф. Хрущева «по ордеру Академии наук президента графа Кириллы Григорьевича Разумовскова, которому объявлен от ее императорского величества именной указ о напечатании книги Телемака сына Улиссова» (Ломоносов, XI, 211–212). Через несколько дней после январского указа 1748 г. Разумовский велел Тредиаковскому перевести «книгу, называемую „Аргенис“ Баркляйя, на российский язык» (МИАН IX, 60; по признанию самого Тредиаковского, его переводу «Аргениды» поспособствовали к тому же двое других молодых царедворцев – «новыи наши <…> Пилад и Орест», то есть, по всей видимости, И. Г. Чернышев и И. И. Шувалов – Аргенида 1751, I, LVII–LVIII, CIV; Васильчиков 1880, 178). Как видно, указ 1748 г. вводил художественную словесность в канон высочайше одобренной книжности, наставляющей «к светскому житию». Апологию нравоучительных «вымыслов», в том числе романов Барклая и Фенелона, содержит «Краткое руководство к красноречию…» (далее – «Риторика») профессора Академии Ломоносова, сданное в печать в начале 1747 г. и вышедшее летом 1748 г.:
Вымыслы разделяются на чистые и смешанные. Чистые состоят в целых повествованиях и действиях, которых на свете не бывало, составленных для нравоучения. Сюда надлежат <…> из новых – Барклаева Аргенида, Гулливерово путешествие по неизвестным государствам и большая часть Еразмовых разговоров. Французских сказок, которые у них романами называются, в числе сих вымыслов положить не должно, ибо они <…> в самой вещи такая же пустошь, вымышленная от людей, время свое тщетно препровождающих, и служат только к развращению нравов человеческих и к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях. Смешанные вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных действий, содержащих в себе похвалу славных мужей или какие знатные, в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоучение. Таковы суть: Гомерова Илиада и Одиссея, Виргилиева Енеида, Овидиевы Превращения и из новых – Странствование Телемаково, Фенелоном сочиненное.
Возникшая по ходу набора вторая редакция этого рассуждения еще лаконичнее и яснее формулировала такой взгляд на задачи литературы «вымыслов»:
Повестью называем пространное вымышленное чистое или смешанное описание какого-нибудь деяния, которое содержит в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; такова есть Барклаева Аргенида и Телемак Фенелонов (Ломоносов, VII, 222–223).
Нужно полагать, что мнения Ломоносова соотносились со вкусами его придворных читателей – «Риторика» вообще имела успех среди петербургской публики и хорошо продавалась. В частности, вскоре по выходе она заслужила похвалу Татищева (см.: Татищев 1994, 342).
Формулируя в приведенных абзацах общий взгляд на изящную словесность, Ломоносов рассматривает и дифференцирует ее с точки зрения социальных практик, стоящих за практиками чтения. Два типа романов соответствуют двум модусам социального существования. «Французские сказки» плохи тем, что «служат <…> к вящему закоснению в роскоши и плотских страстях»; иными словами, чтение их сопутствует праздному досугу. Нравоучительные романы хороши потому, что содержат «примеры и учения о политике и о добрых нравах». «Политикой» в языке этого времени именовалась, по определению Татищева, «мудрость гражданская» (Татищев 1979, 119) – знание государственных дел. «Аргенида», по уже знакомому нам определению Пумпянского, представляла собой «полный свод абсолютистской морали» (Пумпянский 1983, 6).