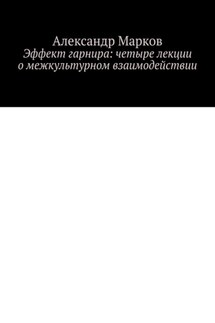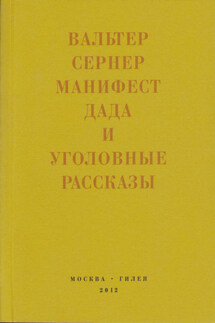Природа человека - страница 2
При этом Юм спорит как с теми философами, которые сводили наше знание к повторяемому опыту, так и с теми, кто видел в знании уникальное самосознание индивида, выстраивающее себя с опорой на данные окружающего мира. В первом случае мы не можем утверждать, по какой причине опыт становится повторяемым, как возникают закономерности, а во втором – непонятно, каким образом мы всё можем объяснить одинаковым образом причины явлений. Поэтому философ настаивает на том, что повторяемый опыт – результат действия природы, которая сама по себе уникальна. А наше знание выстроено как единственный способ договориться с собственной природой, не поддаваться своим страстям и капризам, как и у Декарта или Спинозы: из учения о бытии напрямую следует этика умеренности и строгости к себе. Бог в этой системе оказывается лишь схемой, объясняющей, как природа может реализовывать себя, оставаясь всегда собой, а значит, отношение к Богу – только этический императив, а не индивидуальный опыт. Природа – это сбывшееся бытие, а опыт – знание, умеющее быть также и нашим социальным бытием.
Глава II
О происхождении идей
Всякий охотно согласится с тем, что существует значительное различие между восприятиями (perceptions) ума, когда кто-нибудь, например, испытывает боль от чрезмерного жара или удовольствие от умеренной теплоты и когда он затем вызывает в своей памяти это ощущение или предвосхищает (anticipates) его в воображении.
Восприятие – употребление этого слова во множественном числе для нас необычно, мы привыкли говорить о «способности восприятия» или о «восприятии окружающего мира», имея в виду способность нашего ума выстроить непротиворечивую картину из данных наших чувств. Но для Юма важно, что восприятие предшествует любому такому обобщению или упорядочиванию данных, что это «схватывание» подобно захвату добычи на охоте или хватанию мяча в игре. Соответственно множественность таких «схватываний» понимается мыслителем не как просто констатация множественности вещей и способов их постижения, но как исходная точка его рассуждения о том, что непротиворечивость нашего опыта следует не из некоей метафизической сущности ума, но из способности ума оценить достоверность нашего опыта.
Предвосхищение – способность заранее знать эффект, исходя из закономерно повторяющихся эффектов (например, что можно обгореть на солнце или замерзнуть на холоде) или очевидных свойств предмета (если машина быстро едет, то тем более разрушительным будет удар в случае столкновения).
Эти способности могут отображать, или копировать, восприятия наших чувств, но они никогда не могут вполне достигнуть силы и живости первичного ощущения. Даже когда они действуют с наивысшей силой, мы, самое большее, говорим, что они представляют (represent) свой объект столь живо, что мы почти ощущаем или видим его, но, если только ум не поражен недугом или помешательством, они никогда не могут достигнуть такой степени живости, чтобы совершенно уничтожить различие между указанными восприятиями. Как бы ни были блестящи краски поэзии, она никогда не нарисует нам природу так, чтобы мы приняли описание за настоящий пейзаж. Самая живая мысль все же уступает самому слабому ощущению.
Живость – изначально риторическое понятие, означавшее способность речи предельно наглядно представить живой предмет или ситуацию; тот же смысл, что в слове «живопись». Юм использует это слово вне риторической теории, обозначая просто непосредственное восприятие ситуации именно как ситуации, а не простой суммы данных. Поэтому в конце этого абзаца он обращает термин риторики и художественной критики против художественного опыта.