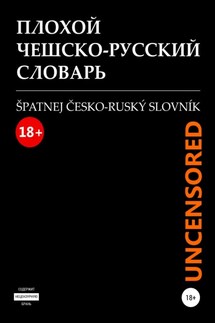Проблемы коммуникации у Чехова - страница 45
Шутки повторяются буквально, как ритуал. Так, в рассказе «Анна на шее» генерал дважды повторяет шутку, давшую название рассказу: «Значит, у вас теперь три Анны: одна в петлице, две на шее» (9; 162, 172), и шутка, таким образом, становится составной частью ритуала благодарности начальнику за полученный орден. Однако если в первый раз она имеет некоторый смысл260, то во второй раз она повторяется чисто механически, то есть представляет собой опустошенный знак. Попытка героя «подновить» шутку («Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира»; 9, 172) не приносит успеха («его превосходительство углубился в газету и кивнул головой»; 9, 172). Надо заметить, что здесь, как и почти во всех описанных ранее случаях, знаки оказываются пустыми только «внутри» изображаемого мира, в перспективе восприятия самих героев. Для читателя же эти знаки несут множество коннотаций, как сиюминутных, связанных с описанной в рассказе ситуацией, так и сквозных, «чеховских». В «Анне на шее» Модест Алексеевич в начале рассказа надеется, что когда он получит орден, «его сиятельство не будет иметь повод сказать мне то же самое» (9, 162), однако в конце генерал дословно повторяет шутку. Но в финале рассказа Анна уже не столько обуза «на шее» мужа (который, по-видимому не чувствует моральной тяжести своего положения), сколько двигатель его карьеры, то есть противоположность обузы – предмет желаний. Анна сливается с орденом – работают постоянные чеховские коннотации «овеществления человека», достаточно глубокие и сложные: став «блестящей», дорогой, ценимой окружающими вещью, героиня теряет человечность; достигнутое желание всегда оборачивается своей противоположностью и т. д. Но все эти смыслы остаются за пределами кругозора героев – так же, как для Туркина остаются недоступны коннотации смерти в его шутках.
Таким образом, «пустой знак» предстает двойственным: опустошая непосредственные значения, доступные героям в их кругозоре, он оказывается полон побочных смыслов, которые характеризуют героя, ситуацию и общие закономерности жизни для читателя, – то есть осуществляет коммуникацию между автором и читателем поверх головы героя. Однако во многих случаях эти коннотации оказываются размыты и трудноуловимы, и потому они обеспечивают разнообразие расходящихся интерпретаций.
Здесь следует указать (подчеркивая специфичность чеховского подхода) на различие коммуникативных стратегий Чехова и Толстого. В самом деле, разве нельзя назвать «стиранием знака» знаменитые толстовские остранения? Например, случаи, когда Толстой называет маршальский жезл «палкой»261 или говорит о кресте священника: «изображение той виселицы, на которой был казнен Христос»262 и т. п. Как нам кажется, если и можно применить к толстовской стратегии выражение «стирание знака», то оно будет иметь совершенно иное значение, чем у Чехова. Толстовское остранение – это прежде всего сознательное игнорирование автором функции изображаемого предмета: маршальский жезл лишается Толстым своего значения символа военной власти, оперный театр (в знаменитом описании из «Войны и мира», использованном Шкловским) лишается эстетической функции, избиение шпицрутенами описывается так, как будто автор не знает о цели наказания и т. д. Знак перестает быть знаком, сохраняя только означающее, и это сходно с примерами из Чехова, которые мы приводили. Но принципиальная разница состоит в следующем: и для героев, и для читателей Толстого изображаемый предмет или явление продолжают оставаться значимыми. Один только автор пытается лишить его значения, показывая, что его символическая или иная функция искусственна, надуманна, обусловлена в корне ложной социальной конвенцией. Толстым движет желание обнажить (лживую) условность знака и заставить увидеть ее читателя.