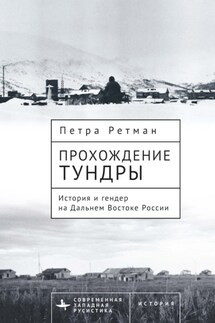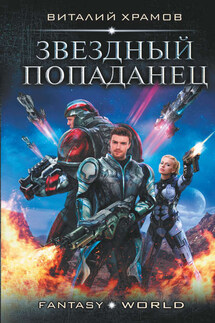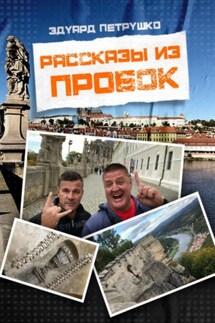Прохождение тундры. История и гендер на Дальнем Востоке России - страница 2
В этих наших беседах я старалась отвечать на каждый вопрос так честно, как только могла, и не боялась открыто говорить о трудностях. Я беседовала со старыми и молодыми, в квартирах, в палатках, на снегу, в поездках или на рыбалке, и постоянно делала заметки. Записи я вела не скрываясь, и это часто вызывало вопросы: мои собеседники хотели знать, что я записываю. При этом они редко прерывали разговор, а иногда диктовали мне, что именно я должна записать. В ходе общения возникали все новые поводы для обсуждения разных проблем, и это позволяло мне задавать вопросы по темам, которые при иных обстоятельствах я затронула бы в лучшем случае мимоходом. Подобные диалоги открыли мне пространство, в котором я могла учиться у корякских женщин и мужчин; эти беседы сделали такую этнографию возможной.
Мы общались с коряками по-русски. Русский – единственный язык, на котором говорили почти все знакомые мне жители северо-восточного побережья. Однако многие корякские старики русского не знали; как бы то ни было, между собой они общались на своих корякских диалектах. Поздней весной 1992 года я прожила два месяца в оленеводческом лагере и там приобрела элементарные познания в рекинниковском диалекте: их было достаточно для того, чтобы называть некоторые предметы обихода и инструменты, но не для общения. Многие коряки среднего и молодого возраста уже не владели языком своих родителей, бабушек и дедушек. Тех, кто им владел и кого я хорошо знала, я часто просила стать для меня переводчиками. Например, рассказ Нины Ивановны, приведенный в главе 4, прозвучал на корякском диалекте села Анапка3 и был записан и переведен на русский ее старшей дочерью.
Мое решение называть имена и упоминать личные обстоятельства отдельных людей было сопряжено с определенной дилеммой и некоторым риском. Однако я изменила имена всех людей, о жизни которых рассказываю в этой книге, за исключением тех, о ком идет речь в главе 4. В этой главе представлены рассказы трех пожилых корякских женщин, каждая из которых недвусмысленно выразила желание, чтобы ее имя было названо. Подразумевалось, что эти истории – их творение, себя они считали авторами. Я старалась также уважать желания и требования других людей, фигурирующих в этой книге. Хотя я стремлюсь к точному изображению, в некоторых случаях пришлось несколько изменить детали и личные обстоятельства, чтобы сделать людей неузнаваемыми и защитить от неприятностей, которые могли бы им принести их рассказы. В деревнях на северо-восточном побережье люди часто называют друг друга терминами родства, а также прозвищами и уменьшительными именами в знак привязанности и тепла. Тем не менее я предпочла использовать в основном полные русские имена, пусть даже с риском, что не сумею передать те отношения близости, которые наблюдала на северо-восточном побережье. Надеюсь, это сделает моих героев еще менее узнаваемыми.
В конце концов, использование географических названий и личных имен – это мой выбор и, следовательно, моя ответственность.
При написании этой книги я столкнулась еще с одной проблемой. В каком времени писать этнографическое исследование? Думаю, для коряков это имеет огромное политическое значение; для области науки, в которой я работаю, ответ на этот вопрос также имеет политический (равно как и интеллектуальный) смысл. С одной стороны, подчеркивание постоянного «этнографического присутствия» может навести на мысль, что культуры существуют как однородные, спаянные традициями единства, не меняющиеся с течением времени. Использование этнографического настоящего опасно тем, что изымает из истории категорию времени, тем самым превращая культурного Другого во вневременные примитивы, анахроничные марионетки традиций [Fabian 1983]. С другой стороны, использование прошедшего времени также сопряжено с проблемой: в отличие от этнографического настоящего, оно как будто подразумевает, что «примитивы» – это пережиток прошлого. Слишком уж легко городским читателям в этом случае заподозрить, что между примитивным и современным мирами пролегает (непреодолимая?) пропасть. Таким образом, использование прошедшего времени говорит не о том, что у коренных народов есть история, а скорее о том, что они и есть история. В этой книге я использую как этнографическое настоящее, так и этнографическое прошедшее, причем использую их непоследовательно. Например, ведя хронику повествований корякских женщин об истории региона, я использую этнографическое настоящее, таким образом демонстрируя, что то, что можно легко отнести к области истории, все еще живо и актуально. Но о стараниях одной молодой корякской женщины создать для себя социальные возможности я рассказываю в прошедшем времени, чтобы показать, что условия жизни на севере Камчатки быстро меняются.