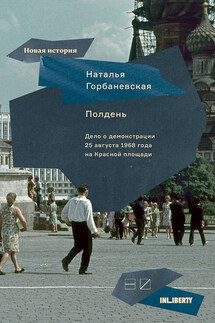Прозой. О поэзии и о поэтах - страница 34
– Вы говорите «растет и растет». А вот я только что прочитала одну диссертацию, присланную мне из Саратова о времени и пространстве в поэтике Бродского «с религиозным христианским осмыслением», где автор приходит к выводу, что «вообще второй период жизни и творчества Бродского не отмечен “духовным возрастанием”». Для вас такой вывод приемлем?
– Ну, конечно, неприемлем. Дух, известное дело, веет, где хочет, но у поэта – в первую очередь в стихах. У Бродского возрастание продолжается в поэтике и, вот здесь подчеркну то, что особенно сильно чувствуется в 80–90-е годы, в этике стихов. Конечно, этике не декларативной. В моем, вполне обычной православной верующей, восприятии, у него всё больше появляется даже аскетическое отношение к жизни, стихам и проч. (хотя, если подумать всерьез, оно мерцало у него еще и в 60-е).
– Как вы относитесь к Рождественским стихам Бродского? Не все из них о Рождестве, некоторые по поводу Рождества и написаны «в монотонной холодности амфибрахия», что дает основание некоторым исследователям Бродского считать, что ни одно из них «не несет христианской радости вечной жизни» и что Бродский в них показывает «полное непонимание сущности христианства». Для вас Бродский – христианский поэт?
– Я затрудняюсь кого бы то ни было называть «христианским поэтом». Это ярлык, этикетка, роль, как у Кублановского или Седаковой. Но насчет «не несет христианской радости вечной жизни» – какие глупости! У меня многие рождественские стихи Бродского ассоциируются с началом польской коляды: «Бог родится, мощь крушится…» Другое дело, что у него нет того западного ограничения Рождества чистым праздником, Святками, где забывается обо всем, что будет дальше. И хотя он не написал ни одного стихотворения о Пасхе, а много – о Рождестве, по тональности он ближе как раз к православной традиции, где все-таки самый великий праздник – не Рождество, а Пасха с предшествующими ей Страстями и распятием. Он в Рождестве всегда помнил о Распятии.
– Вы очень внимательны к интонации своих и чужих стихов. Как бы вы описали доминирующую интонацию стихов Бродского? Как стороннего наблюдателя или как участника всего происходящего?
– Как слушателя или даже «слышителя» – того, что вовне стихов, и того, что внутри их, вовне его самого и внутри. То есть участник и наблюдатель – не те термины, в которых я это воспринимаю. Это, впрочем, наверное, свойство моего восприятия, не объективного, направленного (в стихах и в отношении к стихам) на слух.
– Вам не кажется, что многие формулировки Бродского в стихах и в прозе звучат как назидательные? Может ли Бродский «научить нас жить», как вас научила жить Ахматова?
– «Назидательность» у Бродского – на мой взгляд, свойство не этики стихов, а поэтики. У него ведь вообще часты формулировки, подобные естественнонаучным формулам, особенно в 70—80-е годы. «Назидательность» входит сюда же. Конечно, в человеческом поведении Иосифа были многие вещи, которые мне импонировали, были близки, но «учителем жизни» он для меня не был. Может ли – теперь, то есть только стихами – «научить жить нас», то есть кого-то? Почему бы и нет? Но это не специфика его стихов.
– Вы глубоко уважали Ахматову и имели счастье знать ее лично. Говорили ли вы с Анной Андреевной о Бродском?
– Ну наверняка говорила, но ничего конкретного не помню. Помню лишь, как она его любила, как за него волновалась, когда его арестовали и вплоть до самого освобождения. Помню их вместе – еще до его ареста, но всегда в большой компании. Она очень нежно к нему относилась.