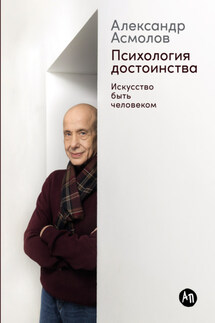Психология достоинства: Искусство быть человеком - страница 10
«Виртуализация» жизни не столько создает, сколько усиливает многие процессы, носящие социально-психологический характер. У человека за компьютером возникает эффект обратимости: все сложилось удачно – выиграл, а проиграл – можно переиграть.
Другая печаль: когда наши виртуальные помощники-гаджеты становятся недоступны – мы оказываемся в ситуации социальной асфиксии. Феномен фантомных болей: когда вы забыли дома телефон, вам становится так нехорошо, будто у вас отрезали руку.
Еще одна беда, когда вы отдаете гаджетам возможность принятия решения за себя и отучаете от этого свой разум. Некоторые утверждают, что если вместо умножения простых чисел в уме вы предпочитаете делать это на калькуляторе, то тем самым «растренировываете» свою голову.
Так ли это относительно таблицы умножения, судить не возьмусь. Но очевидная глобальная опасность – массовая привычка пользоваться внешним умом, подбором аргументов из телевизионной или компьютерной виртуальности в тот момент, когда нужно делать свой ответственный жизненный выбор. Так виток за витком исходная социальная слабость человека превращается в безнадежную социальную беспомощность.
Целый ряд моих коллег-психологов считает, что подобного рода деградация общества уже торжествует. Но виновны в этом не машины и гаджеты, а мы сами.
Вытеснит ли эпоха роботов эпоху человека, проиграем ли мы технологиям искусственного разума в процессе эволюции? Перед наукой и искусством встает ключевая задача осмыслить, чем человек специфичен, в чем главная особенность его природы, чем он отличается от многих других собратьев на лестнице эволюции.
Году в 1995-м мы пили чай с Зиновием Гердтом на его телепрограмме. Он вдруг внимательно посмотрел на меня и сказал: «Саша, ты столько лет занимаешься образованием. Объясни мне, почему все вокруг то и дело твердят, что "дети – наше будущее"? Меня это удивляет».
Я не успел ответить. Гердт опередил меня: «Ведь ясно, что у моих детей свое будущее, а у меня – свое. Дети – вовсе не наше будущее».
Так в разговоре с замечательным актером и мудрейшим человеком отчетливо прояснился тезис: будущее у нас не одно на всех, будущих много, и этой мысли хорошо бы стать привычной.
Люди всегда стремились заглянуть в будущее. Но одна из величайших опасностей этих естественных порывов – составить единый прогноз, вынести всем «приговор к будущему» (даже вообразив его прекрасным). Когда мы говорим: «Вперед, в будущее!» – то рискуем впасть в ошибку, которую я называю «грехом финальности». Мы склонны приговорить самих себя к иллюзии жестко детерминированного будущего, а жизнь своих детей заковать в чужие мечты или страхи.
Грех самосбывающихся пророчеств в том, что они и правда склонны воплощаться. Попробую довести ситуацию до абсурда и спросить: а хотел бы, например, Маркс жить при коммунизме? Вот сбылось бы его пророчество, присел бы он за один столик, например, с Оруэллом, а где-то бы «пил свой кофе молча» («Только некто пил свой кофе молча» – так в известном стихотворении Дмитрия Кедрина) Кафка и посматривал на них с недюжинной иронией.
Иными словами, образ какого-то единого будущего, даже самого распрекрасного, означает лишение человеческого развития дара непредсказуемости, ключевого элемента человеческой сущности.
А заглянуть в будущее люди стремятся всегда. Более того, человек приходит в настоящее не из прошлого, он конструирует свое настоящее как реализацию образа ожидаемого, желательного будущего.