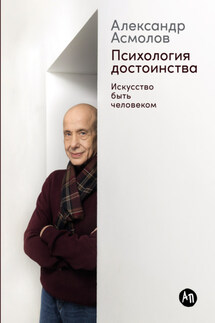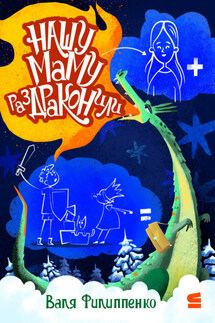Психология достоинства: Искусство быть человеком - страница 11
Такое положение покажется странным, нелинейным. Но если мы говорим о человеке, то должны понимать: человек – незавершенный проект эволюции.
Точнее сказать, человек – незавершаемый проект эволюции.
И таким он был всегда. Человек вечен – но вместе с тем его возможности меняются от эпохи к эпохе.
В связи с этим напомню работу филолога Виктора Ярхо с парадоксальным названием «Была ли у древних греков совесть?». И, оказывается, совесть далеко не всегда была заметной ценностной характеристикой поведения человека. (Стыд, страх публичного позора уже были, а совести почти не наблюдалось.)
Совесть (как, кстати, и самосознание) – относительно поздний культурный продукт антропогенеза. Каждый раз, когда мы рассуждаем о совести, мы сталкиваемся с вопросом: как жить с непохожими людьми. Как подчеркивал мой друг, социолог Игорь Семенович Кон, человечество не раз оказывалось в зазоре между двумя нормативными механизмами контроля поведения: механизмами страха и механизмами совести.
В наш век совесть как совместная весть лежит в основе морального выбора, отделяющего человеческие поступки от трагедий расчеловечивания.
Вопрос о совести – один из вечных вопросов, которые входят в ту аксиоматику нравственности, без которой невозможно с доверием и взаимной радостью жить с непохожими людьми. А без этого вряд ли получится справиться и с рисками развития технологий.
Когда-то было изобретено колесо. Разве нет повода ужаснуться, сколько за эти тысячелетия погибло под колесами людей – от боевых колесниц древности до нынешних автомобильных?.. Но виновно ли в том колесо и его изобретатель?
Вспомним, что в основе когнитивной революции, без которой не было бы искусственного интеллекта, лежала компьютерная метафора «человек есть устройство по переработке и извлечению информации». Только метафора эта глубоко частична. Мой учитель Алексей Николаевич Леонтьев говорил: «Самое страшное, что, создавая искусственные системы, мы вдруг забываем, что сами их создали, и начинаем учиться у искусственного интеллекта уму-разуму».
Это блистательная формула. Самая большая опасность здесь. Люди вдруг безропотно подчиняются тому, что сами сочинили. Когда мы начинаем верить, что та или иная созданная нами система сильнее человека, – разве в этом виновен искусственный интеллект? В этом виновен тот образ мышления, которому мы подчиняемся. (Кстати, возможно, искусственный интеллект вызывал бы у нас меньше страхов, если бы мы термин artificial переводили на русский как «рукотворный», а не как «искусственный».)
Лично у меня больше опасений вызывает не искусственный интеллект, а вполне человеческий технократический разум, которым обладают люди, принимающие решения.
Беда в нем, а не в искусственном интеллекте – это раз, и в «цивилизации статуса» – это два. Всегда в ходе развития люди выбирают: быть многим или обладать многим. Когда один руководитель оценивает другого по тому, есть ли у него личный туалет в кабинете, – то здесь «шестеренки зацепляются» и приоритет статусности ведет за собой принцип «я начальник, ты дурак», гарантируя стремление к технократической простоте решений.
В свое время философ и методолог Георгий Петрович Щедровицкий отчетливо сформулировал: «Попытка простого решения сложных проблем – это и есть то, что мы называем фашизмом». Примитивные решения, принимаемые в сложном мире, ведут к ужасным последствиям.