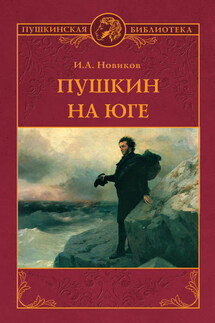Пушкин на юге - страница 40
А это был все-таки почерк Елены – косые, немного еще неуверенные строки; склоняясь, она размышляла над ними, и это почему-то его волновало.
Он вспоминал ее негромкий грудной голос и ее простые участливые слова: «Вы опоздали. Как я беспокоилась!» Это она говорила ему…
– Николай, посмотри. Какой чудесный перевод, и почему она его разорвала?..
После обеда решили пройтись в горы – подальше. Правда, что небо нахмурилось и генерал на него поглядывал не без тревоги, но он и не отговаривал: что из того, ежели и помочит, в походах то ли бывало. Искоса он поглядел на старшую дочь, но в Крыму она решительно поправлялась. Пушкину было грустно, что Елена не шла вместе с ними. Вот кому действительно надобно было беречься. Он глядел на нее, и настоящая печаль пронизала его сердце. Ему казалось, что ей долго не жить и что без нее вся эта семья, с которой и сам сроднился душою, осиротеет.
Он не читал ей этих стихов, слишком они были невеселы.
И как раз услышал ее голос:
– Ну что ж, веселитесь.
Это было последним напутствием, когда вся компания – она была невелика, да женские сборы долгоньки – решительно наконец отбывала.
Пушкин не склонен был надолго заражаться печалью. Не помышляя о том, он выполнил пожеланье Елены. Ему была вовсе чужда рассудочная и как бы принудительная верность одному душевному настроению. Это делало каждый день его полнее и богаче. Он не изменял ничему в себе и никого не обманывал, он был всегда честен перед собой. И это совсем не означало, что он был лишен глубоких и прочных привязанностей. Но жизнь так горела пред ним, так ярко и молодо он ее воспринимал, что все живое первее всего рождало в нем отклик. Единственно, чего он был чужд, – это духа уныния. На кратковременные налеты усталости, очень редко его посещавшие, он смотрел как на болезнь, и с досадою ждал, когда она покинет его.
Кроме Елены осталась дома и Зара. Она объяснила, что не хочет покинуть Елену одну. Но и вообще… Странное дело: там, между гор, в кибитке и переездах, огонь ее глаз, чем-то похожий на дальний костер, мелькнувший в ночи, сильно порою тревожил воображение Пушкина, здесь же она как бы погасла и стала одним угольком. Что же, может быть, это нужно назвать безнадежностью? Да полно, и было ли с ее стороны какое-нибудь увлечение? Как бы то ни было, но у Пушкина к ней была благодарность – за то, что она почти целиком ушла в образ его черкешенки. Даже и безнадежность эта, и обреченность неразделенного чувства – пусть все это только фантазия! – они так гармонично завершали чудесную – страстную и меланхолическую – «деву гор».
Дома оставался также и Николай; больная нога не дозволяла ему дальних прогулок. Зато потихоньку смеялись, что в экспедиции примут участие целых две гувернантки: мисс Мяттен и образ ее и подобие – щепетильная Сонечка! Она все замечала и всех оговаривала. Трудно было видеть без смеха, как, поджав губки, – кубастенькая и кудрявая, – глазами она указывала своей воспитательнице, что Екатерина при переходе через ручей показала чулки, что было, конечно, в высшей степени «шокинг»! Но и мисс Мяттен была тут бессильна: Екатерина Николаевна держала ее в строгости и на почтительном отдалении.
Пушкин шел сейчас с нею, да и с кем же ему было идти? Так нечасто они оставались вдвоем. Шла она гордая, стройная, повыше его. Разговор между ними завязался о Байроне. Это Пушкина полностью развязало, и он говорил, как говорил бы и с Николаем, – запальчиво и горячо, ни в чем ей не уступая.