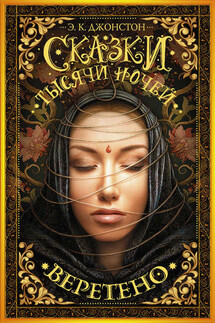Путь царей. И-цзин для правителя - страница 19
Фактичность «Книги перемен» – это фактичность не исторических событий, а природного свершения: она «облекает в образы небо и в законы – землю». Эта фактичность диктует и стиль выражения мыслей – образный, а не понятийный. Но образ используется и в поэзии, отличие в том, что образ в поэзии воздействуют на чувства, а образ «Книги перемен» воздействует на разум и ведет к познанию идей.
Нет возможности свести эти образы к простым представлениям, ибо они насыщены гораздо большим и многогранным содержанием, они как бы заряжены широчайшим содержанием, многообразно приложимым. Поэтому Чжан Сюэ-чэн и говорит: «Широк объем образов! Это – не только "И-цзин". Все классики координированы с ним. Он – то, в чем абсолютная субстанция (дао ти) подходит к своему наглядному оформлению, но еще не проявляется». Образы «Книги перемен», в конечном счете исходя из естественных образов мира, что приближает нас к охвату мира в познании.
Образность книги перемен отмечена и учеными, которые занимались ее изучением, они обозначили эту особенность книги, как многослойность содержания, разбив образ на слои.
Комментарий Чэн И-чуаня (1033-1107)38, знаменитого ицзиниста: «"Перемены" – это изменчивость, в которой мы меняемся в соответствии с временем, для того чтобы следовать Пути мирового развития. Книга эта столь широка и всеобъемлюща, что через нее мы надеемся встать в правильное отношение к законам нашей сущности и судьбы, проникнуть во все причины явного и сокровенного, исчерпать до конца всю действительность предметов и событий и тем самым указать путь открытий и свершений. Да, можно сказать, что совершенномудрые авторы ее достигли наивысшего в своих заботах о последующих поколениях. Хотя мы уже далеки от тех древних времен, но до нас еще сохранились завещанные ими основные тексты. Однако толкователи прежних времен утратили их смысл и передали лишь слова, а их последователи только произносят эти слова и забывают об их сути. Начиная со времени династии Хань традиция этого учения, пожалуй, уже не существует. Я, живущий на тысячелетие позже, боюсь, что такое писание померкнет и исчезнет, и я хотел бы, чтобы люди будущих времен по этому течению взошли к его истокам».
В 1973 г. при археологических раскопках в Мавандуе был обнаружен древнейший, датируемый 180-170 гг. до н.э., текст «Чжоу-и», которому присущ ряд существенных особенностей. В частности, этот вариант «Чжоу-и» представляет собой манускрипт на шелковой ткани, разделенный вертикальными линиями на 93 столбца, в каждом из которых количество иероглифов колеблется от 64 до 8122, что свидетельствует о нумерологизированности самой формы записи нумерологического канона, поскольку 64 (43) и 81 (34) – основополагающие числа китайской нумерологии. Одним из аспектов образности «Чжоу-и» является нумерология, которая, как и все другие аспекты образности, при разворачивании содержания в целостности, может стать самодостаточным мантическим инструментом, оставаясь в неразрывном единстве с «Чжоу-и».
Эта философия, или скорее мировоззрение, лежит в основе мышления авторов этой книги, следовательно, для того чтобы предсказатель мог пользоваться этим произведением, его мировоззрение должно стать таким же. Невозможно пользоваться книгой, воспринимая мир рационально, невозможно пользоваться книгой, воспринимая мир с помощью чувств. Скрипка звучит в руках музыканта, а не повара; борщ удается повару, а не скрипачу; книга раскрывается в руках мудреца, а не простолюдина: дело мастера боится, а иной мастер – дела.