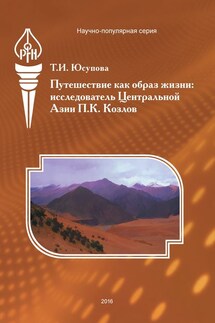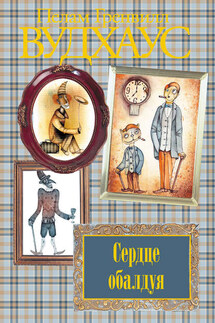Путешествие как образ жизни. Исследователь Центральной Азии П. К. Козлов - страница 16
Деятельность экспедиции условно можно разделить на два этапа. Первый этап – исследование Монгольского Алтая и Центральной Гоби, благодаря которым была нанесена на карты так называемая Заалтайская Гоби. Из Гоби экспедиция направилась в Цайдам, где был организован склад экспедиции. Здесь же, на высоте 3120 м Козлов организовал метеорологическую станцию. Наблюдателем станции назначили Е. И. Муравьева. В течение четырех месяцев он ежедневно по строгому графику проводил измерения и собрал уникальные данные для анализа климата этого региона.
Второй этап включал исследование непосредственно Кама. Из Цайдама экспедиция выступила в мае 1900 г. Летом и осенью была проведена большая работа по изучению истоков трех великих рек Китая – Хуанхэ, Янцзы и Меконга. В долине Меконга, в ущелье реки Речу отряд Козлова остановился на зимовку до марта 1901 г. На экспедиционную базу в Цайдам Козлов с участниками экспедиции вернулся только в июле.
Деятельность экспедиции подробно описана самим Козловым и его старшим помощником Казнаковым в отчетных «Трудах экспедиции», проанализирована Т. Н. Овчинниковой в книге, посвященной Козлову. В нашем повествовании мы кратко отметим только основные достижения первой самостоятельной экспедиции Козлова.
Монголо-Камская экспедиция Козлова стала одной из самых успешных по количественным показателям в истории РГО. Козлов, развивая рекогносцировочный метод Пржевальского, применил вместо линейного исследования площадное, путем организации одновременного проведения целой сети боковых экскурсий. В итоге экспедиция охватила своими маршрутами свыше 10000 км пути со съемкой. В Восточном и Центральном Тибете на карту были нанесены его крупнейшие хребты. Козлов дал им русские названия: хребет Русского географического общества, хребет Водораздел (бассейнов Хуанхэ и Янцзы) и др[104]. Впервые также были исследованы верховья реки Меконг. Знакомство с природой этой части Тибетского нагорья произвело на Козлова сильное впечатление. Вспоминая эту экспедицию, он писал: «Дикие ущелья Кама и Восточного Тибета останутся в моей памяти навсегда одним из лучших воспоминаний в моей страннической жизни»[105].
Что касается второй заветной цели путешествия – Лхасы, то Козлову не удалось туда пройти. Он с пониманием воспринял объяснение посланников Далай-ламы XIII – духовного правителя Тибета, что русскую экспедицию не могут пропустить в Лхасу в соответствии с древними законами Тибета, которые обязывают всех тибетцев свято охранять Лхасу от посещения чужеземцев.
Маршруты Козлова проходили по труднодоступным, удаленным от населенных пунктов территориям Тибетского нагорья. Долгое отсутствие вестей от экспедиции весной 1901 г. породило даже мысль о ее гибели. РГО совместно с Министерством иностранных дел и Главным штабом разрабатывали план по ее спасению[106]. Из Урумчи и Урги были направлены специальные люди на поиск отряда Козлова. Русский посланник в Пекине П. М. Лессар также предпринял «деятельные сношения» с генерал-губернаторами и губернаторами областей, где могла бы быть экспедиция. Сам Козлов об этом узнал уже в самом конце своего путешествия: по дороге в Ургу он встретил посланного из Урумчи человека для розыска его экспедиции[107].
В столицу Монголии Ургу Козлов со спутниками вернулся 7 ноября 1901 г., откуда через неделю выступили к российской границе и 24 ноября уже были на родине, в Кяхте. Здесь их тепло встретили соотечественники. В Петербург Козлов прибыл 15 декабря. Трудное путешествие закончилось! В отчете об экспедиции Козлов отметил, что, если «Кяхта своим широким гостеприимством заставила <…> забыть пережитые <…> невзгоды и лишения», то «сочувствие <…> Петербурга укрепило <…> в сознании посильно исполненного долга»