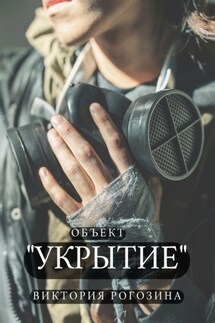и
body politic, представляющий собой получение квалифицированного знания с помощью искусства политического препарирования, которое, как и в медицине, исследует пропорции и способы функционирования политического тела прежде всего на ясных, простых и элементарных примерах
[81]. И наконец, с этим же связан и вопрос о консистенции человека, о том, каков он «в действительности» и как он в качестве такового может предопределять программу учреждения государства. Если антропологизация политики стала заметна уже начиная с Макиавелли
[82], то теперь эмпирически ориентированное государствоведение вращается прежде всего вокруг типичного представителя человеческого рода, который вместе со своими ощущениями и фантазиями, страстями и желаниями и, наконец, в качестве двойной фигуры – как «
материал и как
конструктор» – включается в расчет политической рациональности. Оно вращается вокруг «человека», который еще не рассматривается ни как моральное существо, ни как политическое животное, ему, скорее, приписывается предшествующая всему этому дисфункциональность, и поэтому требуется некое новое исчисление его социального и политического поведения. Ведь «если бы мотивы человеческих поступков были познаны столь же точно, как отношения величин в геометрических фигурах, то честолюбие и корыстолюбие, чье могущество опирается на ложные представления толпы о праве и несправедливости, оказались бы безоружными, и человеческий род наслаждался бы столь прочным миром, что единственным поводом для борьбы мог бы оказаться лишь недостаток территории из-за постоянного увеличения численности людей»
[83]. А в другом месте у Гоббса говорится: «Подобно тому, как в часах или в какой-нибудь другой достаточно сложной машине нельзя узнать, в чем состоит роль каждой детали и колесика, если не разобрать их и не изучить отдельно материал, форму и движение этих деталей, так и при изучении государственного права и гражданских обязанностей необходимо если и не расчленять самое государство, то по крайней мере рассматривать его как бы расчлененным, то есть постараться правильно понять, какова человеческая природа, что делает ее пригодной или непригодной для создания государства и каким образом люди должны объединяться между собой, если они хотят жить вместе. И вот, следуя этому методу, я…»
[84]Политическая антропология
Учение о государстве исходит из аксиоматических предположений о «действительном» человеке, и уже у Гоббса апология persona дополняется методически продуманным протоколом разоблачения, объясняющим те условия и закономерности, в соответствии с которыми затем вымеряется адекватная конфигурация репрезентации и закона. Если государственное существо учреждается в театре ролей и представителей, то государствоведение проникает даже за кулисы, по меньшей мере оно совершает жест, который в «Как если бы» государства-лица фиксирует «Как если бы» его дезинтеграции и, «рассматривая его как бы расчлененным», дополняет сценическую игру репрезентации игрой истины его оснований, вполне в духе эвристической перспективизации пресловутого «естественного состояния»[85]. Будь то у английских философов, французских моралистов или немецких теоретиков естественного права – отныне всякая политическая конструкция занимает определенную позицию в отношении «природы» человека или предполагает ее. И интерпретировалась ли эта природа пессимистически или оптимистически, относилась она ко времени, предшествовавшему зарождению обществ, или понималась как уже социализованная, в любом случае она во многих отношениях сформировала тот новый, далеко идущий «реализм» или «эмпиризм» политической теории, которым пропитана программа теории общественного договора даже у Руссо: «Я хочу исследовать, возможен ли в гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на законах и надежного, если принимать людей такими, каковы они, а законы – такими, какими они могут быть»