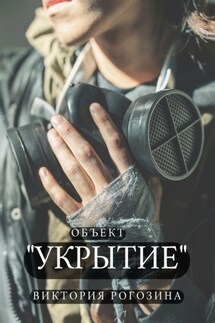Расчет и страсть. Поэтика экономического человека - страница 19
Поэтому, пожалуй, не стоит переоценивать тогдашние дискуссии об онтологии естественного состояния, о многообразии понятий природы и о той или иной естественности естественного человека. Так, например, у Пуфендорфа естественное право подразумевает тщательное исследование «природы человека, его ситуации и его склонностей»; но одновременно именно естественное право оказывается у него и наукой, которая может рассматривать человека только таким, «каким он является в своем сегодняшнем испорченном состоянии, а именно как создание, наполненное разнообразными дурными желаниями»[87]. Поэтому в апелляции к какой бы то ни было «природе» человека осуществляется прежде всего определенная десубстанциализация человеческого, проводится дифференциация между несомненными моральными данностями и социальными детерминантами, дифференциация, отменяющая устоявшуюся предпосылку политического животного и утверждающая отношение политического порядка и поведенческих модусов в качестве особого рода объекта знания. Сколь универсальными ни казались бы естественно- и рационально-правовые обоснования, сколь врожденными и «вписанными в сердце» ни казались бы естественное право и разум, они тем не менее требуют исследования такого человека, который в настоящее время демонстрирует нестабильное, изменчивое и даже враждебное поведение и одновременно с любой постановкой вопроса об учреждении социальности принуждает обратиться к антропологическому знанию.
Итак, как представляется, таковы основные черты логики и перспективы просвещенческого государствоведения, исходя из которых обретает свое место и свою основополагающую систематизацию вопрос о «действительном человеке». При этом данный предмет уже не мыслится субстанциально, теперь это человек в контексте актуальных поведенческих модусов и связей, у которого любое определение и любое отношение к самому себе вызывает проблему многочисленных и ненадежных корреляций, как это можно проследить на примере растущего интереса к концепциям «самосохранения» и «себялюбия»[88]. Поэтому в самую глубину его существа вписана специфическая неопределенность, отчетливо проявляющаяся лишь в социальной коммуникации и становящаяся детерминирующим фактором в сфере политического знания. И в конечном счете это наводит на мысль, что отныне всякая антропология также должна рассматриваться из перспективы антропологии политической или прагматической[89]. Таким образом, систематизация политического знания и генезис систематически понимаемой антропологической фигуры оказываются неразрывно взаимосвязанными. С конца XVII столетия действительность человека и конъюнктура антропологического вопроса занимают место отсутствующей теории общества и укореняются в просвещенческих социально-политических представлениях[90], которые в итоге в конце XVIII века изменяются на основе концепции «тройственного» человека и его корреляций: ноуменального или «метафизического» человека, который не дан в качестве объекта в созерцании; «естественного», который в своего рода контрарной фикции экстраполируется на начало вещей; и человека, искусственно сделанного или «симулированного», который конституируется как некая переменная и момент неопределенности в непрозрачной среде законов своего социального движения[91].
Итак, политическая антропология основывается на существовании внеморальных поведенческих типов, на перечне закономерностей при наличии контингентных взаимосвязей и в сфере приблизительных социальных данных. Она обращается к вопросу о депарадоксализации элементарных, антагонистических отношений, которые зафиксированы еще в понятии «недоброжелательной общительности» и которые в конечном счете связаны с проблемой учреждения государства даже для «народа, который состоял бы из дьяволов»