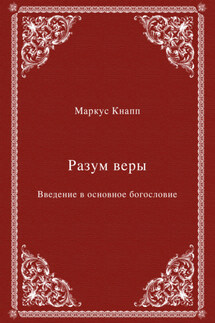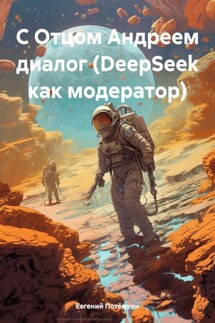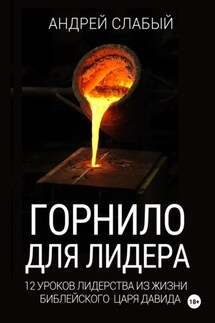Разум веры. Введение в основное богословие - страница 36
Ранер прилагает усилия к тому, чтобы представить эту данность в порядке строго философской аргументации, т. е. без каких-либо теологических предпосылок. Тем не менее, он признает, что это философское доказательство входит в сферу задач богослова, ибо речь здесь идет о заложенных в субъекте априорных условиях возможности быть слушателем Божественного Откровения. Именно демонстрацию этой трансцендентально- философской данности Ранер представляет в «Слушателе слова» как специальную задачу основного богословия.
Позднее в центр теологии Ранера ставится понятие «сверхъестественного экзистенциала». Вместе с тем меняется и его аргументация в основном богословии (Verweyen, 1986b). Теперь Ранер придерживается мнения, что даже простая предрасположенность человека к принятию откровения от Бога нуждается в сверхъестественном просвещении. Таким образом, ход аргументации в основном богословии подпадает под богословские предпосылки (теологии благодати), как можно видеть в «Основаниях веры» (1976). Теперь Ранер усматривает начало движения к трансцендентному в трансцендентальном опыте всегда действенным, но обязательно – при согласии человека (пусть даже часто неосознанном), «ибо именно в этом акте (трансценденции. – М. К.), и только в нем, переживается то, что истинно есть» (Rahner, 1977, 76). Когда человек осознанно отклоняет это от себя, он вступает в противоречие с самим собой. Наоборот, в сознательном «Да» человек обнаруживает «свою подлинную истину именно за счет того, что невозмутимо выдерживает и принимает эту необъемлемость своей собственной действительности, о которой ему известно» (Rahner, 1977, 53). Так человек может отказаться от уверенности в себе и доверчиво предаться всеобъемлющей тайне.
Ибо «человек, который вообще допустил себя до трансцендентального опыта священной тайны, опытно познает, что эта тайна является не только бесконечно удаленным горизонтом, отрешенной и издалека направляющей судьбой того мира, в котором он существует и которому причастен, а также его сознания, не только тревогой, что заставляет его отступать вглубь убогой территории родины-повседневности, но также защищающей близостью, прощающей интимностью, самой родиной, любовью, которая дает себя в приобщение, тем сокровенным (das Heimliche), где можно спастись от тревожности (Unheimlichkeit) пустой и незащищенной жизни» (Rahner, 1977, 137).
Тем не менее для Ранера конкретное обращение к миру остается необходимым, поскольку трансцендентальный опыт не происходит в «безвоздушном пространстве», но в категориальной взаимосвязи мира и его истории. Этот пункт стал решающим для дальнейшего оправдания веры в основном богословии.
По Ранеру, переданные от человека человеку изречения веры могут претендовать на вероятность лишь тогда, когда они находятся в согласии с трансцендентальным опытом человека. Это значит, что христианское послание откровения тематизирует и подвергает сознательной рефлексии то, что уже дано в обеспеченном категориальной историчностью трансцендентальном опыте, и находит в нем свое подтверждение. Однако верно и обратное – исторические события, на которые ссылается христианская вера, необходимы как подтверждение трансцендентального опыта. Он побуждает людей, с одной стороны, искать «абсолютного спасителя», а с другой – устанавливает критерий, на основании которого можно судить о том, действительно ли конкретное историческое событие оказывается тем самым чаемым и ожидаемым событием спасения и утверждается разумом как таковое. Отсюда вероубеждение идет «по кругу взаимной обусловленности трансцендентального опыта благодати и исторического восприятия принимаемых на веру событий» (Rahner, 1977, 237).