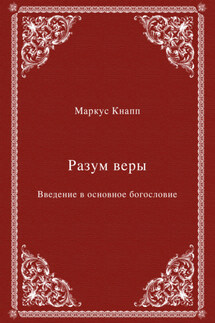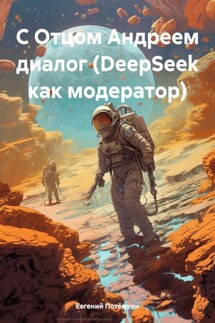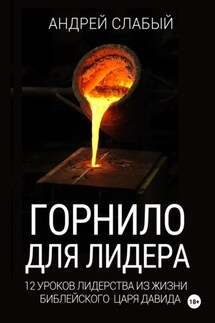Разум веры. Введение в основное богословие - страница 38
2. Ганс Урс фон Бальтазар: основное богословие как «Созерцательное учение»
В трансцендентальный метод, как его практиковал Ранер, внес значительные поправки швейцарский теолог Ганс Урс фон Бальтазар (1905–1988). Он был убежден:
«Критерием подлинности христианского не способна быть ни религиозная философия, ни экзистенция. В философии человек раскрывает то, что ему может быть известно об основаниях бытия, в экзистенции он проживает то, что может прожить. Христианское уничтожается, если оно позволяет свести себя к трансцендентальной предпосылке самоочевидности в мысли или жизни, знании или действии» (Balthasar, 1966, 33; ср. Verweyen, 2006a, 392–394).
Бальтазар видел в этом неоправданную переоценку субъективных факторов вероубеждения, и перед ним вставал вопрос, «не находится ли все это направление под угрозой тайного, а иногда и явного философизма, где внутренняя мера стремящегося духа, обозначается ли она как “пустота” и “полость”, как “cor inquietum”[56], как “potentia oboedientialis”, так или иначе, сделана мерой откровения» (Balthasar, 1988, 142). Но, проблематизируя метод имманентности, Бальтазар не хочет вернуться к экстринзецистскому[57], опирающемуся на внешние признаки познанию достоверности предметов веры. Ведь и этот метод, «который различает между непрозрачным для верующего содержанием веры и свидетельствующими об истинности этого содержания “признаками”» (Balthasar, 1988, 166 след.), видится ему потерпевшим неудачу. Напротив, речь для него идет о «пути между Сциллой экстринзецизма и Харибдой имманентизма» (Balthasar, 1966, 33). Этот путь Бальтазар видит в богословской эстетике, имея ввиду восприятие образа (Gestalt) Иисуса Христа. Ибо во Христе сияет сокровенная тайна Божья, Его величие, которое проявляется как безусловная любовь, дарующая себя в суверенной свободе.
Поэтому Бальтазар переходит к реабилитации категории прекрасного, одной из классических трансценденталий бытия. Ведь «Бог приходит к нам прежде всего не Учителем (“Истинным”) или действенным “Избавителем” (“Благим”), но СОБОЮ, чтобы явить великолепие Своей вечной триединой любви и осиять нас той “незаинтересованностью”[58], которая присуща истинной любви, как и красоте» (Balthasar, 1965, 27 след.). Эта красота должна быть воспринята по-новому. В ней являет себя творческая свобода, которая открывает воспринимающему нечто для него удивительное, непредсказуемое. «То, что противостоит нам, потрясает как чудо и потому никогда не постигается переживающим, но как чудо овладевает его пониманием: оно есть одновременно пленяющее и освобождающее, недвусмысленно дающее себя как “свобода в явлении” (Шиллер) по внутренней непостижимой необходимости… Такое совпадение невозможности для меня самого с убедительнейшей правдоподобностью для меня есть только в царстве незаинтересованно прекрасного» (Balthasar, 1966, 34 след.). Соответственно, это представляет собой единственный адекватный доступ к откровению Божию, ибо лишь в сиянии его красоты может быть показана его достоверность. В разработке этого подхода видел Бальтазар задачу обновленного основного богословия, которое он концептуализировал как «созерцательное учение» – «эстетику (в кантовском смысле) как учение о восприятии образа являющего Себя Бога» (Balthasar, 1988, 118).
Христос есть основание всего христианства, а потому восприятие Его образа должно обосновывать и нести на себе всю христианскую веру. Но для этого недостаточны вероятностные суждения. Чтобы функция обоснования была исполнена, требуется очевидность, «и очевидность не субъективная, а объективная». Бальтазар подразумевает под ней такую очевидность, «которая самим феноменом сияет и высветляется, а не такую, которая обосновывается через удовлетворение потребностей субъекта» (Balthasar, 1988, 446). Таким образом, образ откровения должен сам собой подвигать человека к согласию, поскольку он выполняет определенную функцию для него и может послужить достижению человеком его предназначения.