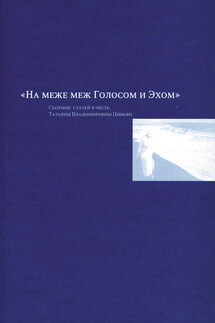Реформа административной ответственности в России - страница 45
Если обратиться к самой ст. 2.4, а не к ее примечанию, то она устанавливает, что «административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей». Однако ст. 14 действовавшего на момент принятия КоАП РФ Федерального закона от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации»[109] гласит: «За неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) на государственного служащего могут налагаться… дисциплинарные взыскания». Названный закон был признан утратившим силу в 2004 г., поэтому процитируем аналогичную норму ст. 57 заменившего его и действующего в настоящее время Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»[110]: «…за неисполнение или ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных на него должностных обязанностей, представитель нанимателя имеет право применить… дисциплинарные взыскания».
Оценивая приведенные выше и явно противоречивые законодательные нормы, представляется очевидным, что в ст. 2.4 КоАП РФ, исключившей имевшиеся в ст. 15 КоАП РСФСР критерии и границы административно-деликтного статуса должностных лиц («ограничители», по образному выражению Ю.М. Козлова), действующий Кодекс в отношении рассматриваемых субъектов административных деликтов «фактически поставил знак равенства между административным и дисциплинарным правонарушением, между административной и дисциплинарной ответственностью»[111].
Здесь следует напомнить, что до принятия в декабре 2001 г. КоАП РФ отечественное административное законодательство никогда не формулировало понятия «должностное лицо», хотя этот термин для сферы государственного управления и административно-правовых отношений всегда был одним из наиболее важных и часто употреблявшихся в административно-правовых актах. Как видим, предпринятая в КоАП РФ попытка определить собственное «профильно-отраслевое» понимание должностного лица оказалась, мягко говоря, неудачной, окончательно запутав статусную характеристику этой и так сложной в теоретическом осмыслении категории субъектов административного и административно-деликтного права.
В отличие от КоАП РФ уголовное законодательство достаточно четко разделяет и недвусмысленно идентифицирует понятия должностных лиц как «представителей власти» и как «субъектов уголовных деликтов». Причем в УК РФ[112] Общая часть «предусмотрительно» не содержит никаких следов общего и универсального (на «все случаи жизни», как в ст. 2.4 Общей части КоАП РФ) определения должностных лиц. Так, например, ст. 285 Особенной части УК РФ дает конкретное понятие должностных лиц как субъектов уголовных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В связи с этим в п. 1 примечания к этой статье установлено: «Должностными лицами… признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 318-Ф3