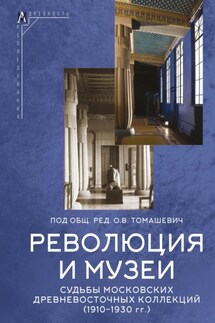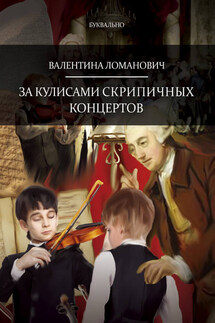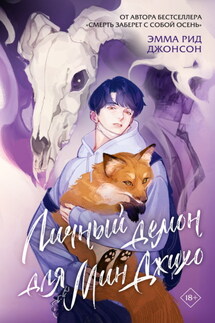Революция и музеи. Судьбы московских древневосточных коллекций (1910–1930 гг.) - страница 3
. А он был личностью весьма неординарной – даже на фоне других удивительных представителей редкого вида homo aegyptologicus. Трудно сказать, насколько органично в нем сочетались (или жестоко боролись?) очень разные качества, доставляя, наверняка не только радость, но и терзания их обладателю. Благодаря своим талантам и работоспособности он, родившийся в маленьком провинциальном городке, идеально вписывался в круг столичной интеллигенции начала ХХ в., благодаря которому в русской культуре появилось понятие «Серебряный век» (при этом, что довольно типично для России, по своему рождению и происхождению он к этому кругу не принадлежал и влился в него именно потому, что был незауряден и устремлен к знаниям). Случайно он был с юности знаком с некоторыми значимыми фигурами этого культурного феномена, но неслучайно отдельные из этих дружеских связей развились и расширились. Поцелованный музами живописи и литературы, он устраивал в московской квартире художественные выставки (причем его работы на «Выставке 7» в 1915 г. считались лучшими[5]), увлекался поэзией, организовал литературный журнал в Политехническом институте, а в Каире писал новеллы и даже роман «Хроника одной жизни»[6]. Ярко проявлявшаяся в нем склонность к мистицизму и романтике не мешала ему – уже в советской России – быть энергичным и трезвомыслящим музейным деятелем, организатором различных научных и ненаучных обществ и добиваться на этих путях административных побед в честь своих непомерных амбиций. При абсолютнейшем равнодушии к коммунистическим идеям он легко и быстро научился использовать правильные слова и прекрасно вписался в тот революционный подъем культуры, который наблюдался при падении власти незадачливого «хозяина земли русской» Николая II.
Рис. 2. М. В. Викентьев
Когда обращаешься к изучению жизни и творчества ученого, одна из самых интригующих тем, не всегда поддающаяся исследованию, это история пробуждения интереса к будущей специальности. Еще любопытнее, когда специальность редкая. Владимир Михайлович Викентьев родился 6 июля 1882 г. в семье можайского купца второй гильдии в Костроме, старинном городке на Волге[7]. Эта дата и место рождения подтверждаются копией метрического свидетельства, хранившейся при Спасской церкви, что в Подвязье. Родителями указаны: «Костромской купеческий брат Михаил Александрович Викентьев и законная жена его Мария Константиновна, оба православного вероисповедания», а «восприемниками были: Костромской купец Александр Васильевич Крюков и Костромская купеческая вдова Мария Андреевна Викентьева»; крещен младенец был 15 июля (см. Приложение. Документ 1)[8].
Учился мальчик уже в Москве, в известной Четвертой мужской гимназии[9]. Она была образована в 1849 г. и размещалась в великолепных архитектурных «декорациях»: сначала в доме Пашкова, а с 1861 г. в доме Апраксина-Трубецких у Покровских ворот («Дом-комод», редкий для Москвы памятник позднего барокко). Гимназия была классической, славилась благодаря созданным ее преподавателями учебным пособиям, что говорит о высоком уровне их квалификации, и, конечно, выпускниками, среди которых упомяну лишь Савву и Сергея Морозовых (выпуск 1881 г.) – видимо, у купеческого сословия она пользовалась популярностью. К концу XIX в. в ней обучалось около 450 юношей, из которых около половины было дворянского происхождения (их кормили лучше – пансион стоил 750 руб., а для разночинцев, к коим принадлежала семья Викентьева – 450; по средам и субботам провинившихся щедро «угощали» розгами).