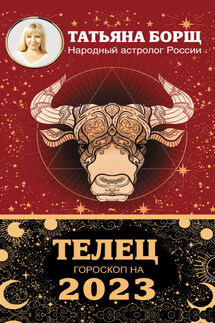Род. Роман - страница 2
Однако врожденная хромота, чрезвычайная строгость отца, постоянное унижение со стороны хозяйки сделали свое черное дело. Мария выросла злой и алчной, хотя и очень набожной.
Ей уже пора было возвращаться в родительский дом, чтобы начать работать там, но скоропостижно умер отец, и, воспользовавшись неожиданной свободой, она осталась работать у Мурзалевской и стала получать хорошее жалование.
Ее сестры вышли к тому времени замуж или просто так уехали на поиски счастья. В доме остались лишь мать да Дуня.
Шел 1905 беспокойный год. Москва бурлила революционными событиями. На Пресне стреляли. Стреляли казаки, стреляли рабочие, засевшие на баррикадах. Да и на Большой Дорогомиловской улице также было неспокойно. Бастовали рабочие Брянской железной дороги. Они присоединились к общей стачке железнодорожников Москвы. На площади Брянского вокзала патрулировали рабочие пикеты с красными повязками на рукавах и вооруженные ружьями. Они не пускали на вокзал штрейкбрехеров. Часто дружные колонны вооруженных рабочих проходили по улицам. Здесь и там вспыхивали летучие митинги.
Обыватели – мелкие московские лавочники, купчишки, мещане, в силу своей природной трусости, по большей части отсиживались в своих заведениях. Те из них, на окнах которых были ставни, закрывали их, а у кого ставней не было, задергивали плотнее шторы, надеясь отгородиться ото всего происходящего, как-нибудь пересидеть неспокойные времена. Они, конечно, чувствуя недоброе, стали мягче, снисходительнее относиться к подмастерьям, приказчикам и прочим своим работникам, стараясь по возможности изолировать их от волнений.
Доходы у этих мелких буржуа значительно сократились. Понятно: кому в голову придет ходить по трактирам, магазинам, заказывать одежду и обувь, когда на улицах стреляют.
Как-то в воскресенье в мастерской у мадам Мурзалевской произошло следующее: по Большой Дорогомиловской улице, куда выходили окна ее мастерской, двигалась колонна рабочих с семьями. Они несли лозунги и красные флаги, пели революционные песни. Мастерицы и подмастерья бросили шить и дружной стайкой собрались у окна. Трудно сказать, какими мыслями руководствовались при этом забитые, малограмотные женщины и девушки. Вряд ли это было вызвано солидарностью с рабочей колонной. Скорее всего, их влекло простое любопытство. Маша Вирейская, чтобы лучше рассмотреть и расслышать, взгромоздилась на подоконник и высунула голову в форточку. В этот момент в мастерскую вошла хозяйка.
– Это еще что за безобразие! – нервным, злым голосом закричала она, – сейчас же за работу!
Мастерицы быстро заняли свои места, а Маша замешкалась из-за того, что голова у нее застряла в форточке. Хозяйка подскочила к окну и с криком: «Я тебе покажу, бунтовщица, я тебе покажу», – принялась щипать ее за ляжки. Маша дергалась от боли и никак не могла вытащить голову из форточки, а хозяйка щипала и щипала ее. Марии каким-то чудом удалось освободиться, она прыгнула, свалив с ног хозяйку. За это Мурзалевская вычла из ее жалования пять рублей, выбив «революционный запал» из Машиной головы на всю оставшуюся жизнь.
В дальнейшем Маша Вирейская к событиям первой русской революции была непричастна.
Время шло, революционный подъем пятого года сменился тяжелой для рабочего класса реакцией. Ежедневно арестовывали все новых и новых людей, переполняя тюрьмы. Но это не слишком касалось обывателей. Разве что жаль было Маше голубоглазого, круглолицего юношу Семена – сына железнодорожника Марка Осиповича Шаповалова, которого арестовали прямо у нее на глазах, при этом очень сильно избили. Маша знала его еще мальчишкой, гонявшим голубей во дворе дома, где она жила все эти московские годы, но вскоре забыла о нем.