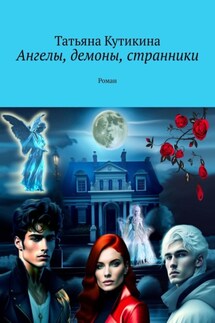Родные узы - страница 40
Можно было постоять немного и спуститься в каюту окончательно, до самого утра, но Эмме предстояло сперва допить этот ромашковый чай. Оставлять половину было как-то глупо и неблагодарно. Она пристроилась к одному крошечному столику, поставила чашку с горячим успокоительным напитком, обещавшим ей долгий и непробудный сон, как вдруг заметила ее, вернее ее одинокую, склонившуюся за соседним столом фигуру. Ну почему бы не оставить чашку так, как есть, или не выплеснуть ее содержимое за борт? Полноводная река простила бы ей такое неуважительное отношение, Эмма ведь не собиралась метнуть в нее пластиковой или стеклянной бутылкой.
Книга, которую она безуспешно пыталась дочитать последние месяцы и взяла с собой на теплоход, содержала несколько весьма запоминающихся эпизодов. Один она запомнила очень хорошо. Мама и дочка из маленькой северной деревушки, прежде чем приступить к сбору ягод или к рыбалке, приносили реке-матушке и лесу-батюшке обязательные гостинцы. Чтобы задобрить и попросить о помощи. Это было непременное условие, о котором мама всегда напоминала дочери. Женщины в голодное военное время клали на пенек картофельные оладьи, а потом аккуратно раскладывали их на берегу с тем, чтобы волна, набегающая на мокрый песок, слизнула их сама, насладилась и забрала в глубину. Не бывало такого, чтобы река не приняла их дар, и это казалось матери самым правильным отношением к природе, которая их кормила и помогала выжить. Забирая – учись отдавать. Эммочке тогда это очень запомнилось, потому что так она всегда относилась к близким людям и хорошим знакомым. Возможно, этот эпизод расположил ее к той книге и заставил читать дальше, но в тот момент на палубе теплохода она вспомнила о современной цивилизации и о том, как люди относятся к окружающей природе. Именно это чувство стыда и неблагодарности удержало ее от того, чтобы выплеснуть ромашковый чай в воду. Мучаясь и страдая над ним также, как над неудачной книгой, она внимательно оглядывала заметно поредевшую публику. Кое-кто еще сидел, выпивал, болтал о ерунде; все, кроме той самой фигуры, склонившейся над столом, придавались безделью и отмечали начало отпуска.
Беззастенчиво разглядывать людей Эмма не любила, но что-то в женщине ее очень заинтересовало. Истязая себя невкусным чаем и вдруг возникшим интересом, она тихо двинулась в сторону загадочной фигуры, боясь, что ее заметят и обвинят в чрезмерном любопытстве. Думала она так абсолютно зря, потому что, приблизившись, поняла, что женщина так самозабвенно, с такой неистовой страстью что-то рисовала, что вообще не замечала ничего происходящего вокруг. Смотреть на нее было все же очень неловко, почти как на пылких влюбленных, целующихся в общественном транспорте, но и оторвать глаз тоже было никак нельзя. Забыв про всякую деликатность, очень даже свойственную Эмме, она подошла еще ближе. Из-за плохого освещения разглядеть рисунки (а их было несколько, разбросанных по столу, вырванных из самого простого блокнота для скетчей), не получилось. Пришлось бы совсем уж беспардонно нависнуть над чужим столом, но и того, что она видела, было вполне достаточно, чтобы понять: художник-то незаурядный! Очень талантливый, с сильной и точной рукой!
Она бы стояла так, наверное, достаточно долго, если бы не появилась девочка лет двенадцати или тринадцати, кутающаяся в легкую курточку, которую в скромном советском детстве называли «олимпийкой», а сейчас переименовали в иностранное «худи». Эммин муж, однако, продолжал упрямо называть все на свой лад и, вероятно, из вредности, не хотел пользоваться новыми терминами. Впрочем, по сути это было одно и то же трикотажное изделие, способное согреть в легкий осенний вечер.