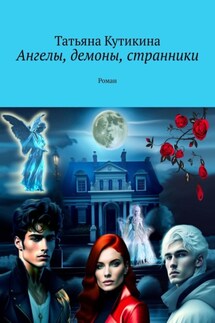Родные узы - страница 42
На этот раз, как и на пару последующих экскурсий, ее супруг решил сделать исключение и присоединиться к их сплоченному хорошим настроением и вкусным завтраком коллективу. Ирина с дочкой в автобусе сидели неподалеку, они иногда перебрасывались фразами, улыбались, фотографировали друг друга у памятников архитектуры, у маленьких церквушек и больших храмов. По-настоящему, конечно, разговорились только после ужина, когда смогли остаться вдвоем в баре за чашкой кофе.
Полина произвела на их новую знакомую странное впечатление. Она пока не стремилась сблизиться с детьми своего возраста, которые были на теплоходе, мало говорила, не донимала мать просьбами и расспросами. У нее в руках имелась книга, которую она открывала очень редко. Казалось, в ее очаровательной кудрявой головке водятся особенные мысли, скрытые не только от Эммы, человека стороннего, но и от родной матери.
Училась она, по словам Ирины, без особого усердия; посещала музыкальную школу исключительно потому, что так хотели родители, никакими способностями не блистала, рисовать не любила. По утрам ей часто нездоровилось, и мама разрешала ей остаться дома. Тихо и незаметно она добралась до шестого класса и сейчас, похоже, больше всего на свете хотела, чтобы ее оставили в покое. Ее часто видели сидящей у воды. Она смотрела на брызги, на расступающуюся речную гладь, фотографировала багряно-охристые берега, проплывающие мимо огромные теплоходы и крошечные кораблики. Себя она снимать не любила и недовольно хмурилась, когда Ирина просила ее улыбнуться. Она делала это натянуто и искусственно, фотографии получались невыразительными, никто бы не удивился, если бы Полина на их основе сделала вечный вывод для подростков всех времен и народов: она некрасива и безнадежна.
Эмма прекрасно помнила себя в этот период: всем подросткам не нравится, как они выглядят, досаждает внимание взрослых и тотальный контроль. Тщательно отыскивая в себе недостатки, подросток их обычно успешно находит, а потом заботливо холит и лелеет свои комплексы. Полину, вероятно, сердили косички, что заплетала ей по утрам мама, бабушкины золотые сережки, казавшиеся слишком крупными для ее нежного бледного личика, но она еще слабо сопротивлялась. Она лишь старательно подворачивала брючки, чтобы выглядеть более современной, старалась носить куртку нараспашку, и однажды Эмма видела, как она пристраивала к ушку копеечные деревянные сережки в виде большеглазых сов, купленные у какой-то старушки, кажется, в Угличе. Ирина эту затею явно не одобряла.
Не помнилось, чтобы мама и дочка ссорились. Ирина ей не досаждала своей заботой, а если была увлечена рисованием, то весь мир и вовсе переставал для нее существовать, просто этой современности мать не одобряла. Не понимала она однодневной моды, не выносила безвкусицы, а все попытки дочери преобразовать себя на современный лад считала глупостью. «Не стоит примерять на себя то, что тебе чуждо, не нужно идти на поводу у других – пусть они равняются на тебя», – говорила Ирина. А с другой стороны, откуда ей, двенадцатилетней девчонке, знать, что ее, а что чужое, если она это не примерит, не попробует? И возможно, безвкусным и устаревшим ей кажется как раз-таки то, как одета ее мама?
Эммочке, например, образ Ирины казался очень и очень гармоничным. Ее красота была приглушенная, чистый холст, который при желании можно было раскрасить в любой оттенок. Полина унаследовала этот окрас от мамы, и Эмма не знала, прослеживались ли в ней черты отца, но сходство с матерью, на ее взгляд, было бесспорно.