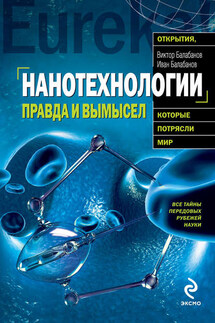Россия и мусульманский мир № 10 / 2016 - страница 16
В результате прохождения процедуры аккредитации мусульмане России получат достаточно объективную оценку качества образования в конкретном медресе и будут иметь критерии для сравнения разных медресе между собой. Прохождение аккредитации позволит убедиться другим медресе, что данное учебное заведение готовит специалистов нужного качества в соответствии с заявленным уровнем, и упростит процедуру взаимного признания квалификаций. Прозрачность позволит усилить студенческую мобильность внутри образовательной системы России: студенты получат возможность по упрощенной процедуре переводиться на аналогичные программы в других медресе, обучаться в сокращенные сроки по программам высшего образования после завершения обучения по программам среднего профессионального образования.
Таким образом, аккредитация позволит идентифицировать мусульманские образовательные организации по уровню качества и сделать эту информацию доступной всем заинтересованным сторонам. Однако в прозрачности и открытости мусульманского образования заинтересовано не только мусульманское сообщество. По-видимому, следует рассматривать вопрос открытости гораздо шире. Как отмечал современный татарский богослов В. Якупов, обсуждая стратегические цели мусульманского образования, «духовное образование должно строиться на принципах открытости обществу, верующим, государству, быть современным, национальным в хорошем смысле слова, динамичным и конкурентным»39.
В действительности к содержанию подготовки мусульманского священнослужителя проявляют всё больший интерес и иные общественные группы. В значительной степени это связано с негативным информационным полем, возникшим в последние годы в отношении ислама. Проблема исламского экстремизма – это глобальная повестка дня, это вызов, с которым сталкиваются все общества, в которых проживает мусульманское население. Несмотря на то что проводниками этих идей и действий являются хорошо известные экстремистские группы, к сожалению, нередко в общественном сознании связываются понятия «мусульманин» и «экстремист», «мусульманин» и «террорист». Таким образом, то, о чем проповедует, и то, к чему призывает лидер мусульманской общины – имам-хатыйб, становится важным не только мусульманскому сообществу, в толерантной и миролюбивой направленности всей его деятельности заинтересовано наше общество в целом. В современной России сложились особые социальные условия, когда имам, выступающий с проповедью, становится, вольно или невольно, общественным деятелем, к словам которого приковано внимание всех общественных групп. Общество хочет знать, «на чьей стороне» выступает имам: желает ли он мирного сосуществования мусульман в едином поликультурном пространстве российского общества, или же, например, проповедует идеи создания исламского государства, противопоставляя его принципы принятым в России положениям Конституции.
Если мы обратимся к историческому опыту выстраивания отношений с мусульманским духовенством внутри сообщества поволжских татар, то можем отметить, что восприятие роли имама именно в качестве публичного деятеля было во многом исторически сложившейся традицией. В. Якупов осмыслял это явление так: «После гибели Казанского ханства развитое татарское общество, хорошо структурированное, имеющее соответствующую самым передовым странам мира духовную и культурную надстройку, потеряло многие институты. И вся надстройка татарского общества сосредоточилась в духовенстве, т.е. практически татарская культура, ее интеллигенция постепенно приравнялась к слою священнослужителей. Это привело к расширению функции духовенства по сравнению с другими мусульманскими странами, где духовенство продолжало занимать свою нишу наряду с другими государственными институтами. Татарское же духовенство было долгое время практически единственной элитой из татар»