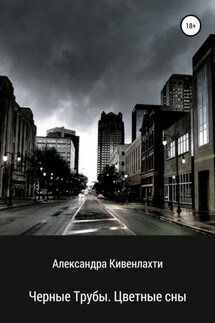Россия и мусульманский мир № 2 / 2016 - страница 17
Примечательно, что данная особенность отмечается и В. Якуповым, который со временем пришел к выводу, что у татар «так и не сложилось собственной оригинальной версии ислама. Бесчисленные рассуждения о джадидизме остались просто набором концепций, которые так и не смогли обрести сторонников из-за богословской невнятности джадидизма. До сих пор даже терминологически не определено содержание самого понятия “джадидизм”. По сути, даже в Казани у каждого ученого имеется собственное понимание этого слова, отнюдь не совпадающее с мнениями других. Татары фрагментируются в конфессиональном плане на сторонников дореволюционного ханафизма, ваххабизма, Хизб ут-Тахрира и других течений, а собственной богословской модели не просматривается. Отсутствие консолидации на конфессиональной почве у татар делает их просто человеческим сырьем для иностранных мусульманских проектов. В этой связи, как никогда, для татар актуально формулирование своей “мусульманской идеи”, что позволило бы определить свое место в умме, о направлениях и перспективах развития в рамках ислама. Исходя из этой идеи можно было бы понять, кто в разноликой мусульманской умме партнеры и союзники для нас, а кто, может быть, и противники» [20].
Характерной чертой религиозной ситуации в постсоветском Татарстане является наличие мессианских устремлений. Вот как выражает эту идею В. Якупов: «Мне хотелось бы, чтобы наша интеллигенция и руководящая прослойка осознали, что необходимо сохранять и развивать наш татарский вариант ислама. У нас, я бы сказал, пока монополия на этот подлинный коранический дух ислама. Но он разъедается буквализмом. Это наше духовное сокровище, и на нас лежит большая ответственность. Этот положительный опыт может быть тиражирован во всем мире, особенно в Европе. Наши предки сохранили этот пророческий дух, и весь мир будет постепенно идти к этому» [20].
Это позволяет говорить о сильном влиянии идей национализма, в том числе среди татарских религиозных деятелей. По мнению В. Якупова, «это уникальный случай сохранения ислама в условиях жестокой многовековой христианской оккупации и насильственного крещения. Значит, есть в исповедуемом татарами исламе что-то настоящее, базисное, близкое к пророческому идеалу, что делает его настолько устойчивым, несмотря на отдаленность от центров исламской цивилизации. Отсутствие отступлений, сколько-нибудь значительных ересей, тяготение к умеренному, наиболее адекватному пониманию ислама и удивительно, и, на первый взгляд, необъяснимо» [18].
Таким образом, в традиционалистском дискурсе мы наблюдаем феномен этнизации религии. Но эти утверждения Якупова также свидетельствуют о том, что идеологи татарского традиционализма не стремятся распространить его только на татарский народ, но считают, что татарский ислам может служить идеологической основой для остального мира. Стоит отметить, что феномен этнизации религии у татар появился отнюдь не в советский период, а в дореволюционную эпоху, и восходит к пантюркистскому движению [9, с. 405].
Этнизация религии является ключевой тенденцией татарского традиционализма. Происходит апелляция не к универсальному исламу, а осуществляется привязка ислама к региону. В связи с этим все другие исламские течения в рамках этого дискурса представляются ложными, подвергаясь жесткой критике. «Ислам в заграничной упаковке (ваххабитско-салафитской, таблигитской, нурсистской) не так безобиден, так как эти молодые адепты начинают идентифицировать себя как часть этих обществ, становятся их патриотами, для них Россия и Татарстан – это, по сути, враги, территории для экспансии, не более того, это человеческий материал, который необходимо обработать» [19, с. 28]. В. Якупов утверждает: «Меня восхищает чистота татарского ислама. За границей – там новшество на новшестве» [21, с. 509]. Особо достается «арабскому» исламу, который определяется как «ваххабитско-салафитский». Утверждается мысль, что некорректно выдавать национальные проблемы арабских племен за общеисламские [19, с. 29].