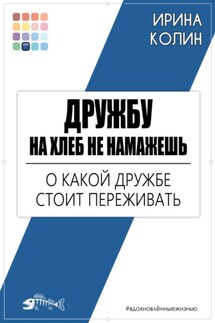Россия и мусульманский мир № 4 / 2017 - страница 7
Возможности России заключаются во влиянии на фундаментальные факторы: наряду с Саудовской Аравией и США наша страна является крупнейшим производителем нефти. Создание гипотетического картеля для ограничения объемов добычи нефти в составе России, Венесуэлы, Бразилии, Ирана, Ирака, КНР, Анголы, Казахстана, Азербайджана поставит около 37% мировой добычи под влияние картеля. Это даст возможность договориться о регулировании объемов добычи нефти. Фундаментальным фактором являются геополитические риски, которые включают классические войны, «гибридные войны», санкции, перебои в транспортировке, аварии на нефтедобывающих предприятиях и транспортных системах. Россия может использовать гибридное воздействие на страны Персидского залива (на них приходится более четверти мировой добычи нефти), которые даже более далеки от «либеральных» идеалов «цветных революций», чем страны Северной Африки и Ближнего Востока, подвергшиеся воздействию стратегии «управляемого хаоса». По расчетам автора, принимая максимальные издержки добычи нефти вне США в 30 долл. за баррель, «справедливой» (рыночной) ценой при стабильном спросе и стабильной добыче можно признать цену в диапазоне 50–70 долл. Такая цена не налагает на страны-импортеры бремя спекулятивной переплаты, а страны-экспортеры получают достаточную (не спекулятивную) прибыль. Конечно, конъюнктура мирового рынка изменчива и многофакторна, но именно превращение товара в финансовый актив приводит к аномальному колебанию цены на нефть от 110 до 30 долл. при практически неизменных фундаментальных факторах. Картель стран-экспортеров мог бы рыночными средствами (квотирование добычи) скорректировать «невидимую руку рынка» (глобальные инвесторы).
В заключение можно провести еще одну аналогию. Современный мир, находящийся в процессе глокализации / гибридизации, напоминает производный финансовый инструмент в форме расчетного фьючерса. Продавец и покупатель получают выгоду без реального обмена товара на деньги, а их сделка оказывает существенное воздействие на экономическую, социальную и политическую сферы общества. В этом и заключается сущность гибридных возможностей и угроз.
1. Бодрийяр Ж. 2016. Дух терроризма. Войны в Заливе не было. – М.: РИПОЛ классик, 224 с.
2. Бюллетень о состоянии российского образования. Июнь 2015. – Аналитический центр при Правительстве РФ. 18 с. Доступ: http://ac.gov.ru/files/ publication/a/5474.pdf (Проверено: 17.07.2016.)
3. Герасимов В.В. 2013. Ценность науки в предвидении. – Военно-промышленный курьер. № 8 (476). 27 февр. Доступ: vpk-news.ru/articles/14632 (Проверено: 17.07.2016.)
4. Карякин В.В. 2015. Гибридные войны как фактор возрастания нестабильности в зонах соперничества мировых держав. – Гибридные войны в хаотизирующемся мире ХХI века (под ред. П.А. Цыганкова). – М.: Изд-во МГУ, 384 с.
5. Магда Е.В. 2015. Гибридная война: Выжить и победить. – Харьков: Виват, 320 с.
«Власть», М., 2016 г., № 9, с. 15–24.
Концептуальные проблемы современного исламоведения: Поиск парадигмы трансформации исламских сообществ
Р. Патеев, кандидат политических наук, директор Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан
Аннотация. В статье рассматривается статус исламоведения как научного направления. Отмечается размытость предмета исследования и отсутствие общепринятых методологических подходов. Поляризация научных мнений связывается с тем, что сами исследователи в области ислама представляют различные специальности. Указывается, что современное исламоведение, развивавшееся под влиянием традиций востоковедения, в основном сосредоточено на источниковедческой проблематике и рассмотрении идеологических контекстов ислама. При этом исследователей мало интересует оценка реальных социокультурных трансформаций в исламских сообществах. По мнению автора, отсутствие общепринятой парадигмы осмысления истории исламской цивилизации является основной проблемой при разработке концепции трансформации исламских сообществ. Центральной же проблемой остается осмысление трансформаций взаимоотношений религиозных и политических институтов в исламских сообществах. Имеются существенные расхождения в определении и характеристике понятий «исламское возрождение», «фундаментализм», «модернизация» и т.д. Ставится под сомнение адекватность отнесения консервативного салафитского течения к реформаторскому движению. Предлагается соотнесение, но не отождествление современных процессов в мусульманских сообществах с концепцией Реформации христианства в Западной Европе. Подчеркивается значимость процессов секуляризации мусульманских сообществ. По мнению автора, во многом именно этот процесс вызывает сложные реакции, вплоть до крайних проявлений радикализма.