Читать онлайн Литературно-художественный журнал - «Российский колокол». Специальный выпуск. 2025
© Российский колокол, 2025
Редакция не рецензирует присланные работы и не вступает в переписку с авторами.
При перепечатке ссылка на журнал «Российский колокол». Специальный выпуск. 2025 обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Слово редактора
Дорогие читатели журнала «Российский колокол»!
Представляем вашему вниманию специальный выпуск литературного журнала «Российский колокол».
Продолжаем чтение романа Анастасии Писаревой «Игроки». Автору удалось создать психологический портрет поколения. В главном герое мы можем найти те черты, что сегодня приняты за норму, но автор показал, что нормой это можно назвать с натяжкой.
В разделе «Современная проза» вы найдёте рассказы самой разной направленности, но их объединяют вещи, которых нам всем стоит коснуться. Хорошо было бы, если бы в рецензиях на прозу мы научились говорить о темах, которые поднимают авторы. Раздел «Метафора» представлен красивыми сказаниями, певучими текстами. «Поэзия» в этот раз представляет военную тематику и новые имена.
Критик Вадим Чекунов препарирует тексты в статье «Промеж болотной неудоби». Елена Гофман рассуждает о симулякрах писателей, а Ольга Камарго исследует феномен Эразма Роттердамского, мыслителя XV века, и сложные взаимоотношения Льва Толстого и кинематографа.
Будем рады вашим отзывам!
С глубоким уважением к читателю, шеф-редактор Анна Гутиева
Современная проза
Елена Гофман
Пыль на брусчатке
Сергей Аркадьевич медленно шёл по узкой улочке, стуча тростью по брусчатке, выложенной веером. Он думал о том, сколько миллионов ног мостовая вынесла на своём горбу, сколько каблуков и подошв; сколько лошадей, запряжённых в экипажи и повозки, когда-то гулко цокали по ней, сколько автомобилей с рёвом проносится мимо. Сейчас лето, душно и мостовая в пыли, но скоро дожди смоют пыль с поверхности, осенние листья покроют узкую улочку шуршащим одеялом, а затем мороз скуёт её ледяными тисками и выпавший снег смягчит двойную твёрдость льда и камня. Но мостовой хоть бы что, хоть кол на ней теши. Она одинаково равнодушна, дрова ли на ней лежат или покойники…
Правда, кладка местами порушилась из-за отсутствия отдельной брусчатки. Сохранившиеся камни торчали, как редкие почерневшие зубы старика, накренившись вбок без опоры. В таких местах Сергей Аркадьевич останавливался, втыкал трость в углубление, напоминавшее ему пустую лунку, десну без зуба, и выставлял вперёд здоровую ногу. Затем осторожно переносил больную и всматривался в щербатую брусчатку, решая, куда перенести трость дальше.
Он остановился у трёхэтажного дома из красного кирпича и, прежде чем свернуть во двор, решил передохнуть. Посмотрел на низкие старенькие домишки и опять погрузился в размышления. Любые сооружения, построенные человеком, – не просто стены сами по себе. Вместилища человеческих жизней, они держатся дольше людей. Вещи – значит вещие, почти вечные, прочные и неживые. Хотя говорят ведь, что дома дышат. Может быть, живут они какой-то особенной жизнью, неподвижной, устоявшейся: чувствуют что-то, вещают нам безмолвным языком, – а людям и невдомёк. Конечно, дом выглядит молодым и красивым, когда люстры внутри горят да музыка играет, когда оштукатурен он и пахнет свежей краской. А вот после бомбёжки дом черепу подобен: пустые глазницы окон, худые скулы подъездов, желваки флигелей. Нет, всё это – человеческий взгляд на вещи. Самим стенам всё равно, сирена воет или оркестр играет. И мостовая эта, и улица – всего лишь пространство, арена для жизни. Но иногда кажется, что именно мы, люди, вторичны по отношению к вещам; именно мы подобны призракам: наша жизнь скоротечна, пожили немного да осели пылью на брусчатке, уступив место следующему поколению призраков. И так слой за слоем, слой за слоем. Каждое поколение – словно пыль времени на потемневшей мостовой.
Раньше Сергей Аркадьевич, бывая на Васильевском острове, обходил улицу Репина десятой дорогой. Но, ссутулившись под тяжестью лет, понял, что сумерки приятнее яркого света, а тихие проулки милее любого шумного проспекта. Брусчатка хранила его тяжкие воспоминания, но с годами любое горе отчасти притупляется и не удручает, как раньше.
– Твой краш, говоришь? Ну-ну… Уже пятый за полгода, – услышал он звонкий девичий голос.
– Да ладно, сама не лучше, – второй голос был чуть глуше, с хрипотцой, словно прокуренный. – Я хоть живых реальных пацанов выбираю, а ты то в певцов, то в актёров влюбляешься. И что это на завтрак мой любимый крашик лопал? И куда это он потом поехал? И с кем он последние три ночи провёл?
– А твои задроты чем лучше?
Сергей Аркадьевич, оказавшись случайным свидетелем девчоночьей перепалки, непроизвольно поднял глаза и словно прилип взглядом к их яркой внешности.
– Ну, чего уставился, дед? – хриплым окриком осадила его девушка с ярко-зелёной чёлкой и густо накрашенными глазами.
– Я? Ничего, – потупился Сергей Аркадьевич.
– Да ладно тебе, не груби, – махнула рукой на подругу её спутница, от которой отличалась только цветовой гаммой волос. Их кирпичный оттенок здорово сочетался с фасадом ближайшего дома.
– Пришли. Вот она, «Репа», – обрадовалась Зелёная и ткнула пальцем в сторону внутренней арки. Они свернули во двор, и дед вновь поднял глаза, рассматривая их тёмные фигуры, одинаково одетые: в широкие толстовки и штаны чёрного цвета.
А ведь Сергей Аркадьевич тоже в «Репу» направлялся, в кафе-клуб для трудных подростков. Его ведь пригласили специально, чтобы он поделился воспоминаниями как коренной ленинградец, участник блокады, который родился на Васильевском острове и в пять лет был эвакуирован вместе с матерью на Большую землю. Встреча с Сергеем Аркадьевичем, по замыслу организатора Елены Владимировны, должна была тронуть души малолетних недорослей, проблемы которых крутились вокруг наркотиков и цифровых миров.
Внуков у Сергея Аркадьевича не было, сын жил далеко от северной столицы, поэтому опыта общения с юным поколением дед не имел. Он согласился выступить в «Репе» после долгих уговоров жены: «Сделай доброе дело, поговори, расскажи им, живущим в достатке и сытости, о том, что детство бывает совсем другим, ну же, пойми, что ты – живая история». Но была ещё одна причина: кафе находилось именно на той узкой улице, названной в честь художника Репина, с которой он так давно не решался встретиться. Сергей Аркадьевич подспудно знал, насколько важно для него пройти по щербатой мостовой. И, столкнувшись с яркими девицами, он вновь засомневался, нужна ли ему встреча с подростками. Минут пятнадцать он топтался у обочины, но, собравшись с духом, решительно направился в кафе.
Его встретила пышная приятная женщина с короткой стрижкой. Её не очень выразительные глаза обрамляли крупные очки в брендовой оправе. Посеребрённые дужки отлично сочетались с белёсостью волос.
– Вы Сергей Аркадьевич? Я Елена Владимировна. Проходите. По коридору, пожалуйста. Киносеанс ещё не закончился. Потом обсуждения минут на десять. И затем общение с вами.
– Уж не знаю, справлюсь ли я с такой педагогической задачей. Я ведь, сами понимаете, не Макаренко.
– Да вы не переживайте, ребята сложные, но не безнадёжные, – защебетала она. – Их возраст самый противоречивый. Незрелость подростков двойная: она и телесная, и душевная. Угловата не только фигура, но и психика, если можно так сказать. Они такие ранимые. Любое слово или действие, с точки зрения взрослых, самое незначительное, может спасти или погубить подростка, толкнуть его в пропасть или, наоборот, вытащить из преисподней.
Сергей Аркадьевич в изнеможении присел на вовремя подставленный стул. Общение с молодёжью показалось ему непосильной ношей.
– Но вы им обязательно понравитесь. Вот увидите. Я хорошо знаю этих ребят. Вы присмотритесь к ним. И при общении ни в коем случае не заигрывайте с ними. Говорите уважительно, но не свысока. Улыбайтесь им, шутите. Они любят юмор.
– Но я ведь пришёл делиться воспоминаниями, и не самыми весёлыми, – несмело возразил Сергей Аркадьевич.
– Ну так и что? И на войне были хорошие моменты, фронтовая дружба, так сказать, и прочее. Вы их позовите, позовите в уютный мирок своего жизненного опыта. Они отзывчивые и если почувствуют, что взрослые или даже пожилые люди наводят мосты в их подростковую вселенную по собственной инициативе, так сказать, то обязательно откликнутся, отзовутся душой.
– Я постараюсь, постараюсь, – поспешил заверить организаторшу представитель пожилого мирка. – Как бы мне самому не утонуть в их подростковой вселенной. Я и слов многих из их лексикона не понимаю. Краш, например.
– О, если вы произносите слово «краш», значит, у вас всё получится, – обрадовалась Елена Владимировна и вновь защебетала: – И понимать здесь нечего. Ребята раскованные, открытые. Их можно спросить о чём угодно. Сами всё объяснят. Они очень сознательные. Понимают любое своё состояние. Умеют называть вещи своими именами. К примеру, вот та, с зелёной чёлкой, – Снежана, она даже ночью мне звонит, чтобы описать своё смятение. Она чётко понимает, что у неё депрессия. Так и говорит: Елена Владимировна, у меня опять она, старуха с чёрными веками, депрессия, хоть из окна прыгай. Я, конечно, её успокаиваю, беседую с ней по-взрослому, серьёзно беседую. Мы с ней полночи говорим. Представляете, она такая настойчивая, всегда старается найти и понять причины своего депрессивного состояния. Ведь мама не баловала её своим вниманием. Девочка росла как плющ на заборе. Цеплялась за любое ласковое слово, за любое проявление тепла, так сказать… Она…
– А что они смотрят? – Сергей Аркадьевич перевёл тему на более безопасную почву. Несмотря на то что экран светился, в зале было достаточно темно, и глаза старика не могли разобрать, сколько подростков находилось в зале.
– Мультфильм…
– Так ребята вроде бы взрослые?!
– Так ведь и мультик непростой. Не зря «Головоломкой» называется. Его герои уникальны. Они – эмоции, живущие в голове одной девочки. Радость, Гнев, Печаль и так далее в равной степени необходимы каждому из нас. Фильм показывает человеческую психику через образы и символы. Вот, например: поезд мыслей – это поток сознания. Он прибыл к хранилищу воспоминаний, в котором особенно занимателен для меня зал… абстрактного… мышления.
Последние три слова Елена Владимировна проговорила медленно и выразительно, с паузами, словно не произносила, а писала каждое из них с заглавной буквы: Зал Абстрактного Мышления. Нотки восхищения слышались в звучании её голоса. И ещё гордость, видимо, за свою причастность к двуногим существам, которые считают себя абстрактно мыслящими. Погордившись несколько мгновений, она важно продолжила с победоносной улыбкой:
– А как изящно вырисован отдел снов! А пещера страхов! А пропасть подсознания! Ведь они, наши трудные подростки, всё время в неё падают. Мы учим их вытягивать себя оттуда самостоятельно, но не с пустыми руками, а с осмысленными нарративами прошлого, так сказать.
– А зачем она нужна, эта пропасть подсознания? – удивлённо спросил Сергей Аркадьевич. – Зачем туда нырять?
– Вы, наверное, незнакомы с современной психологией? – Елена Владимировна снисходительно заулыбалась. – Видите ли, в наше время без этого никак. Негативные следы жизненного опыта ежеминутно влияют на то, как мы себя ведём, какие отношения выстраиваем с людьми. Это бремя, которое тащит каждый из нас. Груз прошлого, призраки пережитого губят наше будущее. Понимаете?

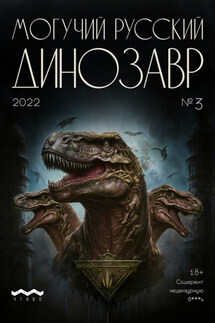
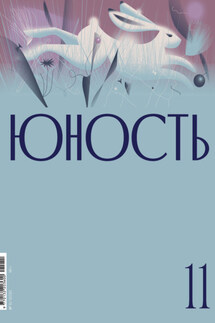


![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



