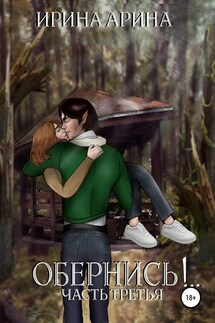Русские: откуда мы? - страница 22
Но вернемся на 40 тысяч лет назад, чтобы убедиться в одном неприятном для нас факте: вопросы, на которые мы пытаемся найти сегодня убедительные ответы, волновали уже наших далеких предков, а вот в понимании сути этих вопросов и их роли в очеловечивании нашей природы предки далеко опередили нас. Во всяком случае, пошлости, которой мы перенасытили всю совокупность вопросов, связанных с проявлением основного инстинкта, у наших предков не было и в помине. Они просто верили, как верил христианский богослов и писатель конца II – начала III века Тертуллиан, что все сущее есть «тело», и потому Бог существует не иначе, как в виде «тела, которое, впрочем, есть дух». Эта вера ничего общего с абстрактно-разумным освоением действительности не имела, а была тем, чем и была на самом деле: естественным стремлением первых людей обнаружить свою связь со Вселенной и, обнаружив такую связь, придать ей соответствующую осязаемую форму, в которой все элементы находились бы в гармоничном взаимодействии и вытекали один из другого.
Глава 3
Сотворение кумиров
Итак, Слово отделилось от обозначаемых им предметов и превратилось в самостоятельно существующий Логос, или понятие, суть – тело, которое, по Тертуллиану, есть дух. Вера в объективное существование этого материализовавшегося духа, – или духа, неотторжимого от тела, – и стало началом очеловечивания человека. Вот как объяснил этот парадокс сам Тертуллиан на примере Христа: «Сын Божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер Сын Божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения Он воскрес; это достоверно, ибо невозможно».
Со времен римского поэта I века н. э. Стация повелось считать, что «на свет богов впервые страх родил». В справедливость такого утверждения трудно поверить. Будь человек так уж боязлив, он вымер бы прежде, чем научился членораздельной речи. Тем более, что причин для страха у человека было предостаточно. Он не обладал ни физической силой многих зверей, на которых охотился (и которые охотились на него), ни их острыми клыками и когтями, ни их скоростью в преследовании добычи, ни крыльями, которые позволили бы перелететь в безопасное место, ни толстой шкурой или шерстью животных, которые могли бы защитить его от холода и т. д. Вдобавок ко всему, человеческий детеныш слишком долго остается беспомощным и достигает относительной самостоятельности в возрасте, когда большинство других животных исчерпывает отпущенный им природой срок жизни.
Тем не менее человек не только выжил, но и пережил многих животных, во всех отношениях лучше приспособленных к окружающей среде, чем он. В чем тут дело? Лишь в одном: в пробудившейся в человеке