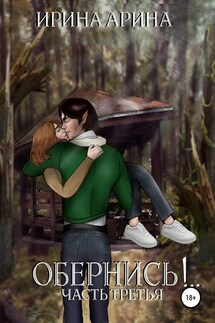Читать онлайн Владимир Меженков - Русские: кто мы?
Предисловие
Кто мы, русские? Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться на первый взгляд. Искали его многие, начиная если не с седой древности, то со времен Ивана Грозного, когда начался интенсивный процесс формирования русской нации. Тогда же иностранцы, посещавшие территорию нашей страны, обратили внимание на то, что ее население в своей основной массе страшно бедно, влачит нищенское существование. Бедность эта находилась в резком контрасте с богатством царей и узкого круга царедворцев, с роскошью которых мало кто мог сравниться из монархов и их окружения на тогдашнем Западе.
С десятилетиями и веками контраст этот не только не уменьштлся, а увеличился, превратившись в пропасть между низшими и высшими слоями населения. Петр Яковлевич Чаадаев писал в 1836 году: русские в своей нищете образуют одну из тех наций, которые «существуют лишь для того, чтобы преподать великий урок миру». Однако такое объяснение не отвечало – да и не могло ответить – на вопрос, кто такие русские?
В последующем вопрос этот стал подменяться другими не менее важными, но все же подвопросами (особенно после поражения России в Крымской войне 1853—1856 годов), из которых выросли целые системы подвопросов, которые также нуждались в ответах: что такое славянофильство, как понимать соборность, какое смысловое значение следует вкладывать в понятие евразийство, возникшее после Октябрьской революции в среде русской эмиграции в 1920—1930 годах, и т. д.
Как это часто бывает в случаях, когда возникает слишком много вопросов и подвопросов, мы предпочитаем или вовсе отмахнуться от них, чтобы не морочить себе голову, или находить простые ответы, которые еще больше запутывает существо дела. Так, во всяком случае, произошло в советскую эпоху, когда вопрос о том, кто такие русские, вовсе не ставился (по крайней мере, в Советском Союзе; на Западе он время от времени возникал, но там этот вопрос чаще всего обретал обобщенный характер, распространяясь на все народы, населявшие Советский Союз, которых скопом называли русскими). Однако незадолго до развала и особенно после развала СССР главный вопрос, кто такие русские, проявился с новой силой не только в нашей стране, но и за рубежом, где русских стали изучать как самостоятельную нацию, а не народ, растворенный во множестве других народов России.
И снова, как во времена Чаадаева, стали находиться люди, которые, не утруждая себя анализом глубинного существа вопроса, довольствовались простыми ответами: в хронической нищете русских виноваты Ленин, Сталин, большевики, которые затеяли невиданную по масштабам авантюру в виде строительства коммунизма, обошедшейся народу неисчислимым множеством загубленных жизней. Впрочем, находились и такие, кто пытался ответить на вопрос о том, кто такие русские, не столь примитивно.
Так, политолог Глеб Павловский, например, писал: «Кто мы? Те, кто удостоился чести вершить мировой процесс. А что есть мировой процесс? Воспитательная катастрофа. Один из компонентов мифа о России – педагогический катастрофизм: оказывается, погромы и землетрясения поражают людей для того, чтобы зрелищем казни вразумить остальных». В своих эсхатологических размышлениях Павловский пошел так далеко, что не исключил полное исчезновение русских как народа и приход на их место других людей, которые изберут себе прежнее самоназвание исчезнувшего народа – русские.
Не столь мрачно был настроен Александр Исаевич Солженицын. Но и он, вернувшись в Россию в 1994 году после вынужденной 20-летней ссылки и проехав всю страну с востока на запад, ужаснулся очередному чудовищному эксперименту, какой учинила над народом новая посткоммунистическая власть. Не вдаваясь в поиски ответа на злополучный вопрос, кто такие русские, Солженицын озаботился другим, на то время более важным вопросом: а осознают ли русские в должной мере, что они продолжают оставаться русскими? В книге «”Русский вопрос” к концу ХХ века» одну из причин катастрофы, постигшей русский народ, а вместе с народом всю страну, он усмотрел «в сегодняшней аморфности русского национального сознания, в сером равнодушии к своей национальной принадлежности».
Тогда же, на волне безразличного отношения русских к себе и своим национальным корням, увидела свет книга, которая так и называлась: «Русские: кто мы?» (автор Геннадий Хохряков). И тем не менее вопрос, кто такие русские, продолжал «висеть в воздухе», то облекаясь в форму поиска национальной самоидентичности, а то, утрачивая человеческий характер, растворялся в географическом пространстве, занявшем восьмую часть суши: «Мы – это Россия».
С учетом такой разноголосицы мнений вопрос «кто мы?» стал раздражать некоторую часть русских, отчаявшихся найти на него удовлетворительный ответ. Публицист Анатолий Ракитов, выражая позицию этой части русских, написал: «Мы все время себя спрашиваем: “Кто мы, русские? В чем наши особенные черты, откуда мы “есть пошли”? Эта самопоглощенность, зацикленность на себе объясняется тем, на мой вгляд, что Россия всегда была окружена контрастно противоположными культурами и, сравнивая себя то с Востоком, то с Западом, все время задавалась вопросом: так кто же я? Запад? Восток? Или нечто промежуточное, среднее?» И приходил к следующему умозаключению: «Будет очень хорошо, если этот вопрос поскорее забудется. Возможно, мы поймем наконец, кто мы такие, а может, так и не поймем, но нам станет просто не до этого. Мы займемся совсем другим: начнем строить нормальную жизнь».
Под «нормальной жизнью» чаще всего понимался отказ от бесперспективности иллюзии коммунизма и возврат к капитализму с его законом частной собственности, рыночными отношениями и культом денег, которыми заправляет их верховное божество – прибыль. Практическим осуществлением возврата к капитализму или, если угодно, насаждением новой религии, в святость которой все мы, и прежде всего русские люди, должны поверить, и занялась новая российская власть после 1991 года.
Что из этого получилось – тема отдельного разгвора. А сейчас спросим себя: так надо ли нам и дальше искать ответ на неподдающийся четкому определению вопрос, кто мы, русские?
Надо. Потому надо, что надежда тех, кто, подобно Ракитову, считает, что, забыв об этом вопросе, мы начнем наконец «строить нормальную жизнь», – та же иллюзизия, причем более беспочвенная, чем идея построения коммунизма. Русским никогда за все века существования государства не позволялось самостоятельно решать, что для нас «нормалная жизнь», а что «ненормальная». Да наши предки и сами не знали, что означает для них «нормальная жизнь», «жизнь по наряду, закону», почему и призвали на княжение заморских варягов.
Эти пришлые властители и стали не просто «третейскими судьями», на что рассчитывали наши предки, а вождями, которые стали диктовать народу, как ему следует жить, на деле обернувшись бесхитростным постулатом: основное предназначение русских – обслуживать интересы власти.
Традиция эта, заложенная первыми Рюриковичами, выросла впоследствии в самодержавие, в сравнении с которым «абсолютные монархии» на Западе и «тирании» на Востоке выглядели просто «детскими забавами в песочнице». Природа утвердившегося в России и сознании русских самодержавия ничуть не изменилась ни при советской власти с ее «диктаторским режимом», ни при нынешнем режиме с его «суверенной демократией».
«Нормальная жизнь», которая грезится Ракитову и Кº, это то, что дозволяет нам власть в лице ее бесчисленного сонма чиновников во главе с самодержцем (царем, генсеком, президентом), а что категорически запрещает (запреты эти породили в советские времена такое явление, как «теневая экономика», а сегодня вылились в самое наглое взяточничество и коррупцию, при которых любые запреты легко снимаются). Потому-то лишь осознав, кто мы, русские, мы поймем наконец и то, что нам в этом мире нужно, какую форму жизни нам избрать и куда идти дальше вне зависимости от того, что предписывает делать нам власть, пекущаяся лишь о собственных корыстных интересах.
Найти если не верный ответ на вопрос, кто мы, русские, то хотя бы нащупать пути к этому ответу (что само по себе немаловажно) нам могли бы помочь психология и наука, которую древнегреческий мыслитель Фукидит называл философией в примерах, а французы человеческой душой, что роднит эту науку с психологией. Речь идет, одним словом, об истории.
История, утверждал Цицерон, наставница жизни. «Первая задача истории, – говорил он, – воздерживаться от лжи, вторая – не утаивать правды, третья – не давать никакого повода заподозрить себя в пристрастии или в предвзятой враждебности».
Держа в уме эти три составляющие науки о прошлом, полистайте наши школьные учебники истории, возьмите в руки учебники для вузов, послушайте рассуждения наших политиков о давнем и недавнем прошлом России, и вас охватит такая тоска, что хоть волком вой.
Нас, русских, лишили истории. То, что предлагается нам под видом науки о прошлом, на самом деле никакая не наука, а изъеденное молью платье, которое каждый, кому не лень, перекраивает и перелицовывает на свой лад. Но чем больше это платье перекраивается и перелицовывается, тем менее пригодным для носки оно делается. Отсюда – утрата интереса к нашему прошлому. Между тем народ, не проявляющий интереса к своей истории, утрачивает интерес к постижению своей души, а утратив интерес к душе, лишается корней, снабжающих ее жизненной силой. Что, собственно, и произошло с нами, русскими.
Когда-то Сервантес потребовал: «Лживых историков следовало бы казнить, как фальшивомонетчиков». К счастью, на смертную казнь в России наложен мораторий. Жутко представить, какими горами трупов покрылась бы наша земля! Ну да не станем рядиться в тогу Цицерона и ставить перед историками заведомо невыполнимые задачи воздерживаться от лжи, не утаивать правды и тем паче не давать повода заподозрить себя в пристрастии или предвзятой враждебности. Кому-кому, а историкам лучше других ведомо, каково это бесконечно трястись на ухабах прошлого, отчего у них не только основательно помутилось в головах, но и возникло стойкое отвращение к этому прошлому как предмету их профессиональных занятий. Сказал ведь наш современник Игорь Николаевич Данилевский в вводной лекции к своему курсу «Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.)»: «Современная историографическая ситуация – не только в России, но и в мире – характеризуется чертами, которые позволяют оценить ее как кризисную. В частности, это связано с разочарованием в еще недавно господствовавших концепциях научного исторического познания, со все более четко оформляющимся представлением о принципиальной невозможности разработки универсальной теории, объясняющей все стороны общественной жизни» (курсив автора. – В. М.).
Итак, проку от истории мало. Что нам остается? Ничего другого, кроме как последовать примеру французов и заглянуть в собственную душу. Скажете, неисторический подход к истории? Еще какой исторический! И сделать нам это помогут внутренняя память о прошлом, передающаяся из поколения в поколение на генетическом уровне, смежные науки, прежде всего психология, и – реальные факты из нашего прошлого, в которых, как их не переиначивай и не перетолковывай в угоду собственной предвзятой концепции, сконцентрирован уникальный опыт поисков, обретений и потерь, выпавших на долю русских.