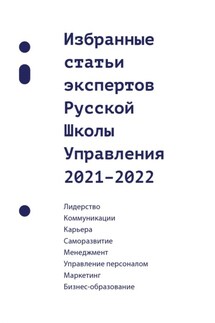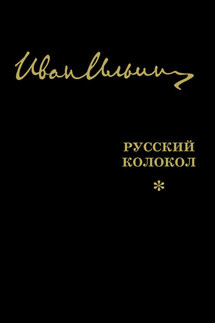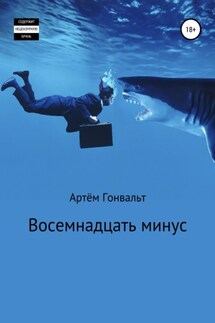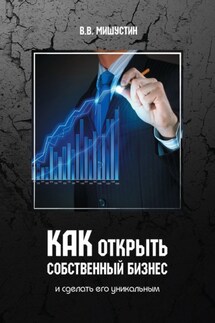Русский Колокол. Журнал волевой идеи (сборник) - страница 76
Сам Макарий об этом своем труде говорит: «а писал есми и сбирал и в едино место их совокуплял дванадесять лет, многим имением и многими различными писари, не щадя сребра и всяких почастей».
Собравшиеся в «Российское Царствие» части Русской Земли и русского народа должны были знать и свое историческое прошлое, чтобы уяснять себе свое настоящее и определять задачи своего будущего. Рядом с местными летописями и их сводами на Руси, около митрополии уже давно вырабатывались общерусские «митрополичьи», летописные своды. И именно при митрополите Макарии совершилось завершение этой работы составлением самого полного общерусского летописного свода, случайно только не получившего его имени и известного под именем Никоновского, как напечатанного в XVIII столетии со списка, принадлежавшего патриарху Никону. При Макарии же было закончено и составление так называемой «Книги Степенной Царского Родословия», в которой впервые дано изложение русской истории на основе ее единства, понятого в смысле ее единения с ее историческою властью, «от варяга Рюрика» до «царя и великого князя Ивана». С именем Макария связано и устройство Печатного двора, типографии. «Изыскивати мастерства печатных книг» в Москве стали не только «повелением» царя Ивана IV, но и «благословением» митрополита Макария.
Конечно, и распространение христианства среди язычников Московского государства было деланием Макария. Еще в бытность свою архиепископом Великого Новгорода он организовал миссию в Водской пятине (части нынешних Петроградской и Новгородской губерний, а также Финляндии). Как митрополит, он ее ведет среди лопарей (у Белого моря) через приснопамятного преподобного Трифона Печенгского и его сотрудников. Завоевание царств Казанского и Астраханского возложило на русскую православную миссию новую задачу. Но какую инструкцию дал Макарий первому Казанскому архиепископу Гурию в 1555 году? – «Всякими обычаи, как возможно, приучать ему татар к себе и приводити их любовью на крещение, а страхом их ко крещению никак не приводити».
Такова была деятельность митрополита Макария, если мы на нее посмотрим в тех, только главнейших ее проявлениях, которые доступны короткому очерку. Но где же его личная жизнь? – может спросить читатель. Она целиком в его деле, в его служении Церкви и Земле. Лишь в предсмертной своей болезни, в исходе 1563 года, восьмидесятилетний старецмитрополит вспомнил о ней, когда уже «изнемогал» в своей тяжкой «немощи». Он молил царя: «отпусти меня в мое постриженье», т. е. в Пафнутиев Боровский монастырь, где он юношею познал впервые сладость иноческой молитвы и как человек хранил воспоминание этого момента своего личного счастья во всю свою долгую жизнь. Царь отказал: Макарий был слишком велик в своем сане и значении для Земли, чтобы глава ее мог позволить ему окончить свою жизнь в монастырском уединении. И митрополит подчинился царской воле.
Для себя он привык не искать личных утех. Себя он сознавал простою и неотделимою частицею двух великих сил, которым имя русская Церковь и русская Земля. О себе он писал в своих Минеях-Четьях: «всех молю и коленома касаюся… да вспоминают смиренную и грешную мою душу в святых своих ко всесильному Богу молитвах».