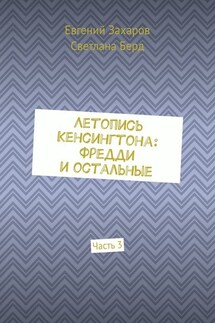Русский сокол - страница 5
Если бы я сейчас был жив и лежал, допустим, в реанимации, разговаривал с мамой или со следователями, то и говорил бы как пятилетний. Но наверху понимаешь, что твое Я – всегда в возрасте расцвета: оно старше твоего тела ребенка и моложе тела старика. Поэтому говорю с вами как взрослый.
Мне не везло с мамиными мужчинами: я им мешал даже до рождения. И после. Они не церемонились. Но я родился. Назвали Вовой. У меня уже была сводная сестренка на шесть лет старше – от первого маминого мужа. Я – от второго, которого никогда не знал, и с которым мама прожила четыре месяца. А когда меня убивали, уже появилась еще одна полуторагодовалая сестричка – от третьего, нынешнего ее мужа. Сейчас мама опять в положении.
Из роддома меня забрали к себе бабушка с дедушкой. Они добрые, хотя и пьют. У них в Пашковской – частный дом, там жила Аня, моя старшая сестричка, – все мы, как могли, заботились друг о друге. Дедушка занимался огородом и часто рыбачил. Бабушка мыла полы в детском саду, и почти договорилась, что мне предоставят там место.
Но год назад мама и Сережа, ее муж, захотели забрать нас с Аней к себе. Бабушка сказала, – потому что Путин стал платить по десять тысяч в месяц на каждого ребенка. Бабушка подала в суд, чтобы маму лишили родительских прав. И добилась своего, потому что отыскала и представила суду протокол о штрафе маме – за занятие проституцией. И инспектор ПДН дала показания, что мама не занимается нашим воспитанием. Но мама подала апелляцию, и когда разбирали дело она, как сказала бабушка, выступила, как Гурченко. Решение суда первой инстанции отменили: якобы мать не представляет угрозы для детей. Ни Анечка, ни я в суде не могли выступить.
Меня дядь-Сережа бил каждый день. Мама тоже била, но нечасто и за дело: если плачу, если одежду испачкаю или если есть прошу. А Сережа бил, чтобы заглушить свое унижение. Что не повезло с «гуленой». Что приходится жить на «детские». Что водка кончилась. Что придурки, а не он, Сережа, покупают иномарки. Что жизнь не похожа на картинку в телевизоре.
Он, наверное, сам про себя понимал: зверь. Но был хитрым, и в местах, где мог попасть на видеокамеры, руки не распускал. И в присутствии мамы сдерживался. А когда бил меня, старался, чтобы потом следы были не сильно заметны.
Анюту он не бил совсем, напротив – она была его любимицей.
8 июня вечером мама домой принесла деньги и водку. Дядь-Сережа стал с ней ругаться, обзывать и толкать. Аня попыталась маму закрыть, а я – оттащить от них дядь-Сережу. Он трижды ударил меня по голове, я упал и дополз до кровати.
Когда утром они проснулись, Я уже был здесь, наверху.
Мама плакала: боялась тюрьмы. А Сережа засунул меня в сумку, вывез в лесополосу за Гидростроем и закопал. Целый день они дома пили, плакали и ругались. А на следующий день отправились «на природу», на берег Кубани, там опять пили. После чего мама сообщила в полицию о моем исчезновении во время пикника, – спустя сутки после того, как меня не стало на самом деле.
Дядь-Сережа и мама – они оба понимали, что когда-нибудь меня найдут. Но к тому времени дожди, снега и время сотрут любые намеки на то, кто это сделал. А подозрения – не доказательства. Таков был расчет, но…
Не отыщет меня осенью золотистый ретривер: мама и дядь-Сережа под давлением силовиков сознались. Не сами, а после того, как Анечка рассказала полицейским.