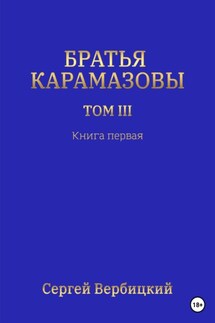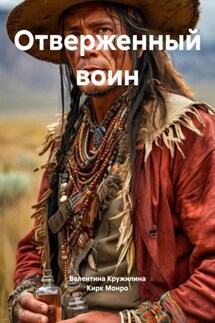Russология. Путь в сумасшествие - страница 53
– Михайлович! Чуток осталось.
Мы приткнули груз к руинам.
– Не приклеить, – сожалел я.
Он ткнул в чёлку снятой шапкой.
– Грех я снял большой. Такой, что вёз вчера вас с поля, и пришло: смерть рядом. Школу бросив, хвастался, все учатся, а я, как взрослый, бороню. Закваскин впрямь помог, в начальстве был. Сказал мне: лошадь дам, чтоб свёз крупу во Флавск, в райком; мешков семнадцать штук для их, мешок к ему во двор, но чтоб не видели; в политике так, дескать, нужно; мамке куль твоей… Отвёз я. После вновь опять: нá лошадь, чтоб не видели, затем как атеизм у нас в Союзе; ехай к церкви, отломи крыльцо, часть для себя, часть мне свези. Я был малой; мне что от церкви, что от клуба – одинаково. И даже хвастал, что крыльцо достал как на Москве в Кремле. Мать тряпкой покрывала, от стыда… – Он повздыхал и шапкой обмахнул крыльцо: – Взойдёт теперь Пантелеймон. Его ведь церковь. Был святой такой… Ох, тягостно! Шпана не тронула, ЧеКа не тронула – а я сумел. От этого и мамкин век был мал… И Марья… Ей кольцо дарил; надеть забыл, как хоронили-то… – Старик всплакнул. – Томлюсь, нет продыху… И по стране нестрой. Что жил, работал, коль рассыпалось? Мрут сёлы! Ходят воры, грабят… Смута! Нет весны, скажу!.. – Он рухнул в розвальни. – Счас мы во Флавск, Надёну свезть. И выпить, стало быть, по случаю…
– Один езжай.
Сын прыгнул с розвальней ко мне в объятия.
– Зайдёшь? – неслось мне вслед.
– Зайду.
Шли в Квасовку. Я думал (отвечая в паузах бредущему близ мальчику), что, убежав «к корням припасть», я вместо этого впал в бедствия; что занят я опять собой, не им, пусть он то главное, зачем я ехал, словно в одури, в глушь серую. А хуже то, что, хворый, бедный, в возрасте, хочу я многого: в Москве жить, не болеть, иметь достаток; быть в лингвистике – в НИИ то бишь; плюс образовывать Антона, в МГУ причём. Ещё хочу помочь жене, хочу бывать здесь в Квасовке. Притом, хочу слыть добрым, честным, некорыстным, скромным и порядочным… Мы шли.
– А, – сын спросил, – что, тульский, пап, язык такой: „счас“, „пенсиев“, „глядай, идрит“, „нестрой“, „дак“, „ендовá“, „ёй“, „кочевряжимся“ и „тоись“?.. Так дед Гриша говорит… Плохой язык! Мы, если б жили здесь, учили тульский? Мне не хочется! А есть, кто знает все на свете языки? Пап, сколько их?
– Их тысячи, семейств поменьше.
– Как?
– Ну, скажем, русский родственен болгарскому, хорватскому и даже, по большому счёту, итальянскому, а с ним – другим. – Выкладывать, каким «другим» и почему, я не хотел, но предпочёл мелодику названий. Я угадывал, что важен здесь не смысл, но музыка, темп, ритм и тон. Искусства, сколь ни есть, ловчат стать музыкой. – Есть семьи языков, – продолжил я. – Кадугли, мади, жу-къви. Семьи есть маку, далее кельтские, эвенкийские, австралийские, аравакские, енисейские, андаманские, эфиопские, папуасские; а к тому же славянские, и семитские, и романские; также зулу и банту, также германские, майя-соке и кéчуа, алгонкино-вакатские и на-дéне… также индийские, также тюркские; и корейский.
Он восторгался: – Ох, пап, на-дéне?! Что за на-дéне? Знаешь на-дéне?
– Тоша, не знаю.
Позже в избе я почувствовал вдруг бессилие. Сев за стол, я смотрел, как сын стаскивал («пап, охотиться!») в кучу мой карабин и вещи, всё из ненужных: кубики, мыло, гайки, резинки, битое зеркальце, грабли, блок коробков. При этом он говорил:
– Пап, снилось: я у Лохны на лежанке. Рассказать? ― Он стал у печки, близ означенной лежанки. – Мы зайчаток поджидали в снежной крепости, и я ушёл. Была б кровать – я б не ушёл, я б спал в кровати… – Он постукал по лежанке. – Вот бы взять лежанку к речке. Пап, возьмём её?