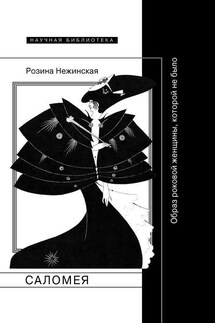Саломея. Образ роковой женщины, которой не было - страница 10
Хотя Евангелия – это и не древние романы, они все же имеют структурные сходства с ними. Толберт пишет:
Евангелия с характерными для них соединением историографической формы и драматического действия; синтезом ранних жанров, таких как биография, собрание мудростей, ареталогия и апокалипсис; стилистическими техниками: эпизодичным сюжетом, минимальным вступлением, центральным поворотным моментом и финальной сценой узнавания, а главное – весьма шаблонным, повторяющимся и схематичным изложением, – обнаруживают разительные стилистические сходства с популярным древнегреческим романом[26].
Толберт утверждает, что каждое из Евангелий – «осознанно сочиненное повествование, вымысел, имеющий своим истоком литературное воображение, а не фотографическое воспоминание[27]. Как замечает Хаим Коэн,
евангелические традиции – «послания веры, а не истории»: всякий исторический подручный материал авторы использовали «с целью добавить подробностей и красочности», <…> они свободно упражнялись в фантазировании, «излагая – и намереваясь изложить – не историю, а теологию»[28].
Пусть поначалу Евангелия и рассказывались устно, конструировались они как древние романы, призванные помочь людям почувствовать себя более защищенными через обретение утешения в Боге[29].
Поскольку нет никаких исторических свидетельств, что история обезглавливания Иоанна, как она изложена в Евангелиях, действительно произошла, такие ее подробности, как Саломея и ее танец, предстают не более чем драматическим приемом. Они подчеркивают истовость Иоанна Крестителя и повышают эффектность его судьбы. Вполне естественно, что авторы, которые были не историками, а «евангелистами», старались использовать все известные истории и традиции, которые пошли бы на пользу основной теме их повествования. Известно, что аналогичная сюжету о Саломее история, также заканчивавшаяся гибелью одного из персонажей, уже существовала в те времена, и евангелисты вполне могли ею воспользоваться.
Как пишут Хелен Загона и Джон Уайт, история, использованная евангелистами для создания сюжета о смерти Иоанна Крестителя, была хорошо известна в раннехристианскую эпоху и воспринималась первыми христианами с ужасом[30]. Утверждается, что эта исходная история произошла в 184 году до н. э., когда консул Фламинин был изгнан из римского сената за уже упомянутое убийство пленника. Первый рассказ об этой истории встречается в диалоге Цицерона «О старости», а позднее Плутарх (ок. 46–120 н. э.) описывает различные формы, которые она приобрела в позднейших изложениях. В собственном жизнеописании Фламинина Плутарх пишет:
У Тита был брат Луций Фламинин, во всех отношениях не похожий на брата, особенно же своим постыдным пристрастием к удовольствиям и полным презрением к приличиям. Луций держал мальчика-любовника <…>. Однажды на пиру этот мальчик, заигрывая с Луцием, сказал: «Я так тебя люблю, что упустил случай поглядеть на гладиаторские игры, хотя еще ни разу в жизни не видел, как убивают человека». <…> Восхищенный Луций сказал: «Не горюй, я исполню твое желание». Он велел привести из тюрьмы одного из приговоренных к смерти и, позвав ликтора, приказал отрубить человеку голову здесь же на пиру. Валерий Антиат, однако, пишет, что Луций сделал это в угоду не любовнику, а любовнице. По сообщению Ливия, <…> к дверям Луция пришел перебежчик-галл с женой и детьми, а Луций впустил его и собственноручно убил на пиру, желая угодить любовнику