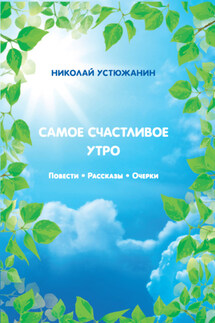Самое счастливое утро - страница 10
В конце 1970 года весь наш третий класс должны были принять в пионеры. Нас заранее готовили к этому: мы выучили наизусть торжественное обещание, несколько пионерских песен, купили красные галстуки, – они были двух видов: атласные и попроще; мой галстук накануне линейки в школе мама выгладила до блеска. Кажется, само событие должно было состояться в воскресенье в 12 часов, поэтому можно было не спешить. Я как раз с увлечением и упоением читал «Старика Хоттабыча» и хохотал до колик в животе. Утром продолжил читать бессмертного Лагина, поглядывая на будильник «Янтарь», – внешне страшный, но крепкий, как алюминиевая кастрюля. Стрелки приближались к 11 часам, но во мне вдруг стало просыпаться чувство, объяснить которое до сих пор не могу. Я вдруг решил вопреки всему не идти на школьный сбор. Здесь не было стремления выделиться, быть не таким, как все. Не было и протеста. Книга была очень хорошей, но я мог в любой момент ее закрыть. «Не хочу, и все!..». Другого объяснения просто не было.
Вечером мама пришла из школы разъяренная. Мне не было стыдно, мне было трудно сказать о настоящей причине отказа, пришлось выдавить из себя что-то вроде: «Книжка уж больно интересная».
19 мая 1971 года, в день рождения пионерской организации, меня все-таки «повязали», да ни где-нибудь, а в самом центре Волгограда, на Театральной площади. С трибуны на скудную линейку переростков смотрели какие-то бесцветные начальники. По громкоговорителю объявили, что у нас еще остались мальчики и девочки, которых пока не приняли в ряды славной организации. Румяная пионервожатая совершила обряд, и я без торжественного обещания (забыли в спешке) стал рядовым советским пионером, точнее, тем же школьником, но с галстуком. Формальность была соблюдена.
Летом 1971 года по всему городу работали так называемые «детские площадки» с воспитателями: учителями или практикантами. Скакать под солнцем в одном месте было скучно, поэтому нас водили на экскурсии: то в музей обороны, то в планетарий, то в картинную галерею. Одну передвижную выставку я запомнил на всю жизнь и, пожалуй, не только я – лица моих приятелей были достойны кисти живописца.
Всего на несколько дней в Волгоград привезли рисунки Нади Рушевой. Ее фотография и краткая биографическая справка, размещенная под портретом, заставили притихнуть даже сорванцов: эта девочка стала рисовать в пять лет, умерла в семнадцать, но оставила тысячи гениальных рисунков. С первого взгляда нам стало ясно, что чудеса бывают на свете. Ее трогательные кентаврята, загадочные древние греки, по-детски чистые лики Пушкина, переполненные нежностью толстовские Наташа и Пьер, мистические Мастер и Маргарита и солнечные улыбки современников пленили нас в прямом смысле – мы забыли об окружающем мире, точнее, увидели его таким, каким он может и должен быть! Радость и печаль слились воедино, сердца стучали в одном волшебном ритме: ломкие линии ее рисунков вдруг обернулись неожиданной гармонией. В них было все: чистота, романтичность, вдохновение и одновременно какое-то странное и трагическое «предчувствие наоборот»: Надя смотрела на нас сразу из будущего и прошлого, она не импровизировала, она так дышала, видела и жила. Ее настоящее имя: Найдан – Вечноживущая.
Надя хотела поступать на анимационное отделение, либо на художественно-графическое, но чему ее могли там научить?! – «Правильной» живописи?..