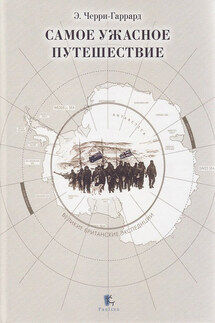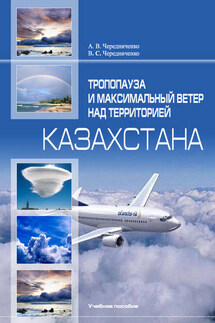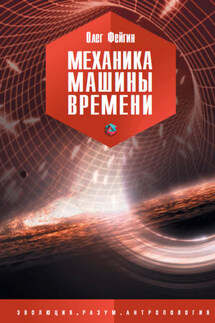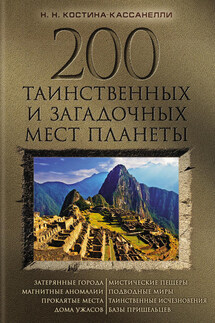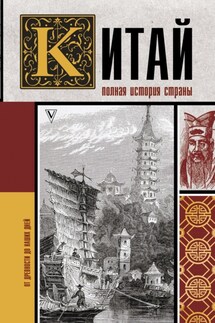Читать онлайн Эпсли Черри-Гаррард - Самое ужасное путешествие
В книге использованы фотографии Г. Понтинга, Р. Скотта и других участников экспедиции
Научный редактор доктор. геогр. наук В. С. Корякин
© Перевод с английского P. M. Солодовник
© Предисловие и примечания В. С. Корякин
Copyright © 2014 by Paulsen. All Rights Reserved.
От лица издательства «Паулсен» я с гордостью представляю вам эту книгу, открывающую серию «Великие британские экспедиции». Перед вами один из лучших отчетов о полярных экспедициях, которые когда-либо были написаны.
Когда в 2004 году журнал National Geographic Adventure опубликовал свой рейтинг лучших книг о приключениях, возглавила его именно книга Черри-Гаррарда, посвященная последней экспедиции сэра Роберта Фалкона Скотта. Это справедливый выбор: автор задумывал свой труд как анализ опыта экспедиции, непосредственным участником которой он был. Однако одновременно он достиг еще более высокой цели: рассказал о том, как любовь к науке позволяет совершить невозможное, а юмор – выжить в нечеловеческих условиях.
Как известно, экспедицию капитана Скотта и его самого в какой-то момент активно критиковали за неподготовленность – за неподходящее снаряжение, за обреченные на неудачу попытки использовать лошадей и мотосани, за отказ от использования собак на пути к полюсу… В конце концов, и в гонке к Южному полюсу ведь победил Амудсен, а не Скотт. Все это так – но чтобы увидеть благородство Скотта и его товарищей и оценить их вклад в историю полярных исследований, необходимо прочитать книгу Черри-Гаррарда. Обещаю, что это будет увлекательно, но не ждите, что путь по ее страницам окажется легким. Автор рассказывает свою историю подробно и основательно, как мало кто пишет в наше суетливое время. Он обращается к дневникам других участников экспедиции, в том числе и Скотта, чтобы рассказать историю как можно полнее. Он рассказывает об экипировке, характерах собак и лошадей – и, конечно, о замечательных людях, не щадивших себя во имя познания.
Я искренне завидую тем, кто только собирается прочесть «Самое ужасное путешествие». Вас ждет замечательное приключения длиной в 500 страниц, и когда оно закончится, вы больше не будете прежним. Возможно, эта книга станет для вас своего рода точкой отсчета – именно потому, что это не рассказ писателя о чьем-то путешествии, а свидетельство непосредственного участника событий.
Фредерик Паулсен, издатель
Концерн «Шелл» в России совместно с издательством «Паулсен» рад предложить российским читателям серию книг, посвященных легендарным первопроходцам, навсегда вписавшим свои имена в историю полярных исследований.
Перед вами русское издание мемуаров Эпсли Черри-Гаррарда «Самое ужасное путешествие». Эта книга, написанная одним из участников легендарной «Британской антарктической экспедиции» под руководством Роберта Скотта, рассказывает о целеустремленности и силе человеческого духа, не сломленного сложнейшими испытаниями.
Арктика и Антарктика всегда манили человечество неизведанностью, суровостью климата, возможностью «заглянуть за край земли». Сегодняшний день привносит в наши представления новые измерения. Антарктика стала крупнейшей ареной мирного международного сотрудничества и научных исследований. Арктику уже сейчас можно назвать главной энергетической кладовой планеты, способной существенно повлиять на будущее человечества.
Примечательно, что книга выходит в перекрестный год культуры России и Великобритании – стран, которые внесли неоценимый вклад в исследование полярных регионов мира. Уверен, что и в будущем сотрудничество между российскими и британскими учеными и представителями бизнеса будет играть важную роль в решении ключевых проблем этих регионов, в том числе в обеспечении безопасного использования энергетических ресурсов Арктики.
Нам особенно приятно, что книга издается при поддержке Русского географического общества, одного из старейших географических обществ мира, продолжающего в наше время славные традиции исследователей и путешественников прошлых столетий.
Желаю вам увлекательного чтения!
Оливье Лазар,
Председатель концерна «Шелл» в России
Эпсли Черри-Гаррард (Apsley Cherry-Garrard) 1886–1959
Введение
Полярное путешествие – лучший способ плохо провести время в условиях уединенности и стерильности. Ни в каком другом путешествии вам не удастся, одевшись в Михайлов день,[1] ходить не раздеваясь до Рождества в чистой, чуть ли не новенькой одежде, не обращая внимания на слой естественного сала на теле. Здесь вы более одиноки, чем в Лондоне, более отдалены от мира, чем в монастыре, а почта приходит раз в год. Принято сравнивать по уровню жизни Палестину или Месопотамию с Францией, но было бы интересно противопоставить этим странам Антарктику, как эталон дискомфорта. Один полярный путешественник уверял меня, что после участия в партии Кемпбелла пребывание в окопах на Ипре казалось ему пикником. Но пока не будет установлена единица выносливости, я не вижу возможности проводить параллели с Антарктикой. Впрочем, и без того ясно, что вряд ли кому-нибудь на Земле приходится хуже, чем императорскому пингвину.
Антарктика и сейчас для остального мира то же, чем была обитель богов для древних халдеев: огромная горная страна далеко за морями, окружающими места обитания человека. Что касается исследований южных полярных областей, то более всего в них поражает их полное отсутствие: уже при английском короле Альфреде викинги плавали по ледовым просторам севера, Южный же континент не был известен даже во времена Веллингтона и битвы при Ватерлоо.
Всем желающим ознакомиться с историей исследования Антарктики я рекомендую обратиться к превосходно написанной главе в «Путешествии на «Дисковери»» Скотта или к другим источникам. Я не собираюсь предварять мою книгу общим обзором такого рода, но мне не раз приходилось выслушивать жалобы на то, что «Последняя экспедиция Р. Скотта» переносит непосвященного читателя в якобы хорошо известные ему места и ставит этим в затруднительное положение, так как на самом деле он не знает, что собой представляло судно «Дисковери», где находится скала Касл, а где – мыс Хат. Поэтому, чтобы были понятны встречающиеся в этой книге упоминания о тех или иных экспедициях, об открытых ими землях, о следах, которые после них остались, я предлагаю вниманию читателя следующее краткое введение.
Уже самые первые составители карт Южного полушария были уверены, что где-то далеко на юге существует большой континент, который они называли «Терра Аустралис». Эта уверенность несколько ослабла, хотя и не исчезла окончательно, после того как мореплаватели обогнули мыс Доброй Надежды и мыс Горн и не обнаружили там ничего кроме, бушующего океана, а впоследствии открыли Австралию и Новую Зеландию. Поиски продолжались, причем во второй половине XVIII века стимулом для них служили уже не только жажда личного обогащения путешественников и стремление государств к захватам новых земель, но и научная любознательность.
Кук, Росс и Скотт – вот властелины юга.
Основы наших знаний о нем заложил великий английский мореплаватель Джемс Кук. В 1772 году он отчалил от Детфорда на судах «Резольюшн» (водоизмещением 462 тонны) и «Адвенчер» (336 тонн), построенных в Уитби для нужд угольной торговли. Подобно Нансену, он считал, что от цинги можно уберечься разнообразным питанием, и в числе других запасов провианта он упоминает «кислую капусту, бульонный экстракт, морковный мармелад, сусло и пиво». Были выбиты медали «для раздачи жителям вновь открытых стран в подтверждение того факта, что мы являемся их первооткрывателями»[5]. Интересно, сохранились ли еще где-нибудь эти медали?
Витамин С необходим, так как он не синтезируется в организме человека и должен поступать с пищей, т. е. является витальным диетическим фактором. Однако цингу вызывает не само отсутствие витамина С, а нарушение его обмена в организме, что уменьшает синтез коллагена – белка соединительной ткани и ведет к выпадению зубов. Если обменные процессы нарушены, то даже при избытке витамина С в диете цинга все равно разовьется. И это нарушение обмена часто происходит при депрессии[34]. (Источники см. в конце книги. – Ред.)
Миновав мыс Доброй Надежды, Кук взял курс на восток к Новой Зеландии, чтобы оттуда пройти в поисках Южного континента как можно дальше на юг. Первый «ледяной остров», или айсберг, он увидел 10 декабря 1772 года на 50°40' ю. ш. и 2°0' в. д. На следующий день он заметил «несколько белых птиц величиною с голубя, с черными ногами и клювом, не виданных мною ранее»[5]. Скорее всего, это были снежные буревестники. Он миновал множество айсбергов – «чем дальше, тем реже с их вершин взлетали альбатросы, зато у подножий появились пингвины», – и был остановлен толстым паковым[2] льдом, вдоль кромки которого пошел дальше. Исходя из предположения, что лед формируется в заливах и реках, Кук решил, что земля должна быть недалеко. Между прочим он замечает, что, стремясь помочь своим людям переносить холод, он «приказал удлинить сукном рукава бушлатов (оставлявшие до этого открытой часть руки) и сделать для каждого капюшон из такого же материала с брезентом, что оказалось для них весьма полезным»[5].
Больше месяца Кук плыл по Южному океану, все время среди айсбергов, а часто вблизи паковых льдов. Погода стояла плохая, обычно пуржило. Кук пишет, что после мыса Доброй Надежды только один раз видел луну.
В воскресенье, 17 января 1773 года на 39°35' в. д. пересечен Южный полярный круг – впервые в истории. Достигнув 67°15' ю. ш., Кук встретил непреодолимое препятствие – огромное поле пакового льда. Отсюда он повернул обратно и взял курс на Новую Зеландию.
В конце 1773 года Кук снова вышел из Новой Зеландии, на сей раз без корабля «Адвенчер», с которым расстался. Высокая волна убедила его в том, что «южнее Новой Зеландии, на ее меридиане, земли быть не может, она должна находиться гораздо дальше на юг». 12 декабря на 62°10' ю. ш. он увидел первый айсберг, а три дня спустя был задержан толстым паком. 20 декабря снова пересек Южный полярный круг на 147°46' з. д. и продвинулся до 67°31' ю. ш. Здесь его подхватило течение и понесло на северо-восток.
26 января 1774 года он в третий раз пересек Южный полярный круг на 109°31' з. д., не встретив паковых льдов, а лишь несколько айсбергов. Зато на 71°10' ю. ш. путь ему преградили непроходимые паковые льды и заставили его наконец повернуть обратно. Он писал:
«Я не берусь утверждать, что нигде нельзя было найти проход и попытаться продвинуться дальше на юг; но это было бы опасным и опрометчивым предприятием, о каком, полагаю, не следовало бы и помышлять человеку, находящемуся в моем положении. В самом деле, я предполагал – и мое мнение разделяло большинство находящихся на борту, – что лед тянется до самого полюса или прирос к какой-нибудь суше[3], с которой он соединен с незапамятных времен; и что именно здесь, то есть к югу от этой параллели, образуется первоначально лед, осколки которого попадались нам то и дело много дальше на север; под воздействием бурь, а возможно, и иных причин, ледяной покров раскалывается и уносится на север течениями, которые на высоких широтах неизменно имеют это направление. Приблизившись ко льду, мы услышали голоса пингвинов, но ни одного не узрели; не заметили мы и большого количества других птиц или какие-либо иные признаки, которые могли бы побудить нас предположить, что поблизости находится суша. И все же я полагаю, что южнее этих льдов есть земля, но если это действительно так, то она не является для птиц и других живых существ лучшим пристанищем, чем льды, ибо и она тоже должна быть полностью ими покрыта. Я, вынашивавший честолюбивые планы не только проникнуть дальше всех моих предшественников, но и дойти вообще до предела, досягаемого для человека, не огорчился из-за их нарушения, так как оно в известной мере даже несет нам облегчение; во всяком случае, сокращает опасности и тяготы, неизбежно связанные с плаваниями в южных полярных областях