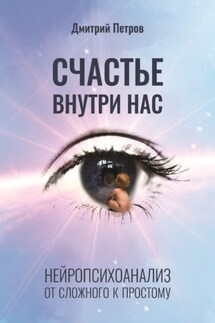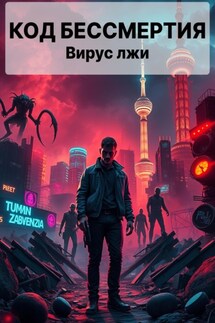Счастье внутри нас - страница 12
Человек не рождается с готовым разумом. Он его создаёт. Сначала – в отношениях. Потом – в борьбе. И, наконец, в принятии. И чем лучше была поддержка в детстве, тем крепче будет эго. Но даже в самых благоприятных условиях оно никогда не становится идеальным. Потому что жизнь – это постоянное изменение. Потому что человек никогда не может удовлетворить всё. Потому что мир – сложен.
Хорошо функционирующее эго – это не совершенное. Это гибкое. Это живое. Это то, что умеет выдерживать напряжение между внутренним и внешним. Умеет переносить фрустрацию. Умеет искать новый путь. Не идеализирует. Не отрицает. Не сдается.
И именно с этим нейропсихоанализ и имеет дело в клинике. Он не встречается с «проблемой». Он встречается с Эго, которое устало. Которое не справилось. Которое не получило нужной помощи в момент роста. Или сломалось под весом слишком большого давления. И задача – не исправить. А помочь восстановить. Дать опору. Дать язык. Дать понимание, что с этим можно жить. С этим можно быть.
Но также важно, чтобы я мог просто сослаться на те клинические реалии, к которым хочу всё это привести. Вся эта модель, все эти размышления, вся теоретическая работа – не ради построения ментальных конструкций. А ради практики. Ради того, чтобы понимать, с кем имеем дело, когда приходит пациент. Потому что уровень функционирования его разума, его эго, его посреднической способности – никогда не будет идеальным. Никогда не будет 100 %. И в этом, как раз, весь смысл.
Пока в нейропсихоанализе разбираем так называемую «норму», уже понимаем, насколько она условна. Насколько она вариативна. Но чуть позже углубимся в патологии. И там, поверьте, вся сложность модели проявит себя в полной мере. Пока же продолжаем собирать каркас.
Так вот. Там, где формируется способность разума быть посредником между внутренним и внешним, там растёт конкретная структура мозга – префронтальные доли. Это не метафора. Это буквальная анатомия. Префронтальные доли развиваются между перцептивными системами (тем, что воспринимает мир) и интероцептивными – тем, что ощущает внутренние сигналы. Именно туда, можно сказать, помещено «я». Именно там появляется центр принятия решений, волевого усилия, планирования, контроля и рефлексии.
Префронтальные доли – это и есть та сцена, где разворачивается становление эго. Это не что-то мистическое. Это нейрофизиология. Это зона мозга, которая учится. Которая строит прогнозы. Которая тормозит импульс. Которая задаёт вопрос: «А что будет потом?» Это то, что позволяет быть не реакцией, а выбором.
Это важно: префронтальные доли растут. Они не даны целиком с рождения. Они созревают. Они дозревают. Им нужно время – почти 25 лет. И всё это время они зависят от среды. От опыта. От качества привязанности. От уровня фрустрации. От чувства безопасности. Они – как почва, в которую что-то сажают. Что посеешь – то и вырастет.
Конечно, есть биология. Есть генетика. Есть заданные параметры. Но основное – это взаимодействие между метагенетикой и средой. Это динамика между тем, что тебе дали, и тем, как с этим обошлись. А кто «обходится»? Родители. Взрослые. Те, кто был рядом в первые годы жизни. Те, кто должен был стать опорой.
Вот почему работа с пациентом никогда не начинается с симптома. Она всегда начинается с истории. Потому что симптом – это след. А история – это процесс.
И теперь, когда я связал становление Эго с префронтальными долями, давайте задумаемся: а что они, собственно, делают? Какую работу берут на себя? Что позволяет им выполнять эту посредническую функцию, удерживать внутреннее и внешнее в балансе?