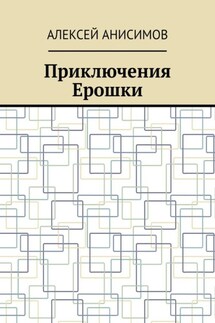Съедобная история моей семьи - страница 19
За каждой квартирой был закреплен чулан в подвале, где хранили овощи, и сарай во дворе, где держали свиней. По двору бегали куры и петухи. Помню, как носили в сарай пищевые отходы, которыми кормили свиней. Мне, городской жительнице, было и интересно, и очень страшно: кто-то из местных ребят напугал меня, рассказав, что свиньи очень любят кушать маленьких детей. Замечу, кстати, что меня, горожанку, местные дети никогда не обижали, а, наоборот, всячески опекали. Я была самая младшая среди них, за что получила прозвание «клопик». Кое-какие свои «взрослые» увлечения и развлечения, как я сейчас понимаю, они от меня скрывали. Но общались охотно и по-дружески, принимали в игры, брали в недалекие прогулки, делились новостями.
Мыться все ходили в городскую баню – старинный одноэтажный домик в центре города, недалеко от моста через реку Таруску. Дни были то женские, то мужские. Ничего романтического в этих походах не было, более того, я их не любила и даже боялась. Большое, плохо освещенное помещение, в клубах пара от горячей воды много голых женщин, в том числе и знакомых, отчего становилось как-то стыдно. В деревянную темную шайку наливают воду, ставят на лавку и моются, поливаясь из ковшика, – вот и весь процесс помывки в бане. Воды мало, мои густые волосы плохо промываются; разве сравнишь это со светлой городской ванной, к которой я привыкла! Хотя теперь я понимаю, что в условиях дефицита воды, когда каждая капля приносилась из колонки на второй этаж и уносилась оттуда в сливную яму, для остальных членов семьи такое мытье было удовольствием и роскошью: лей – не хочу.
Таруса в то время по-прежнему оставалась большой деревней. Весной утопала в цветущих садах, а осенью ведрами выставляли к калиткам домов яблоки и раздавали их желающим – так много их было! Дороги были пыльные, неасфальтированные. Повсюду бегали петухи, куры, утки, гуси. Папа пел песню на стихи Заболоцкого:
Гусей я боялась, они страшно шипели и вытягивали шею, когда шли на меня, маленькую, в атаку. Петухи же мне нравились. Мы с детьми собирали яркие перья, выпадавшие из их хвостов, и хвастались, у кого лучше. А домашние яйца были очень вкусными: бабушка варила их вкрутую, обязательно обтирала тряпочкой, чтобы оно было сухое, и давала мне: «На-ка, скушай-ко яичко!»
В то время Таруса кормила себя сама. Кусок земли с передней стороны дома был большим огородом, поделенным на длинные полосы, у каждой квартиры – своя. Чего тут только не росло – морковь, свекла, лук, укроп, огурцы, помидоры (которые неизменно снимались розовыми и потом долго «доходили» на подоконнике в квартире). А какой вкусной была первая морковка, выдернутая из грядки, обмытая там же, в большой бочке, в которой набиралась дождевая вода для поливки. Вода была грязная, земля скрипела на зубах, но вкус был чудесный.
Картошку, этот важнейший продукт русской кухни в XX веке, выращивали в полях, за городом. У каждой семьи был свой надел, а иногда и несколько, в разных местах. От земли русский человек не откажется никогда, даже если обработка ее отбирала массу сил и времени. Моя тетя Тося выращивала картошку до последнего, пока были хоть малейшие силы дойти до участка. Как мы ни уговаривали ее, объясняя, что купить рыночную картошку в 1990-е годы дешевле, проще и удобнее, чем тратить столько сил на выращивание, выкапывание, транспортировку и хранение своей. «Но своя же вкуснее», – убежденно говорила Тося. И правда, такой белой, душистой и рассыпчатой картошки я в последующие годы никогда не ела.