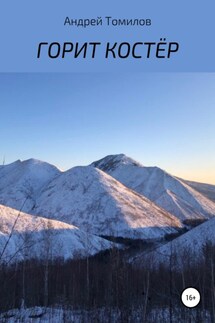Семейство Таннер - страница 7
– Да, он старше и куда лучше меня.
– Вы славный человек, коли можете так говорить.
– Меня зовут Симон, а брата – Каспар.
– А моего мужа зовут Агаппея.
При этих словах она побледнела, но быстро взяла себя в руки и улыбнулась.
Брату Каспару Симон написал вот что: «Все же мы с тобой чудаки. Скитаемся по земле так, будто одни только мы на ней и живем, а больше никто. И дружбу-то свели какую-то сумасбродную, будто среди мужчин не найдется более никого, кто бы заслуживал называться другом. В сущности, мы вовсе не братья, а двое друзей, какие порой встречаются в этом мире. На самом деле я не создан для дружбы и сам не пойму, какая такая необычайность твоей персоны снова и снова заставляет меня мысленно переноситься к тебе, быть рядом с тобой. Твоя голова кажется мне уже чуть ли не моею собственной, вот сколько места ты занимаешь в моих помыслах; еще немного – и я, глядишь, стану браться за всё твоими руками, ходить на твоих ногах и есть твоим ртом. В нашей дружбе явно есть что-то загадочное, ведь должен сказать, отнюдь не исключено, что, в сущности, сердца наши стремятся прочь друг от друга, да только не могут расстаться. И я очень даже рад, что ты пока этого не можешь, ведь письма твои звучат весьма мило, и мне самому покуда хочется оставаться в плену означенной загадочности. Для нас-то этак хорошо, ах, да можно ли выражаться столь сухо! Если честно, то, по-моему, просто восхитительно. Почему бы двум братьям не поломать рамки. Мы вполне под стать один другому и всегда были под стать, даже когда терпеть друг друга не могли и едва не передрались до смерти. Помнишь? Достаточно этого возгласа, сдобренного порцией здорового смеха, чтобы всколыхнуть в тебе, склеить, нарисовать, сброшюровать картины, которые поистине более чем достойны воспоминания. Не помню уже, по какой причине, но мы сделались смертельными врагами. О, мы умели ненавидеть. Наша ненависть была невероятно находчива в выискивании мук и унижений, каким мы подвергали друг друга. Как-то раз за обедом – приведу хотя бы один пример этого плачевного и ребячливого состояния – ты, поскольку иначе не мог, бросил мне тарелку квашеной капусты и вскричал: «Лови!» Должен тебе сказать, я тогда дрожал от ярости, уже оттого, что тебе представилась прекрасная возможность самым жестоким образом оскорбить меня, а я в ответ ничего сказать не умел. Я поймал тарелку и по глупости испил чашу оскорбления сполна. А помнишь, как однажды в полдень, тихий, знойный летний полдень, совершенно шальной от безмолвия, я нерешительно зашел к тебе на кухню и попросил вновь относиться ко мне по-доброму. Признаюсь, мне стоило невероятных усилий преодолеть себя и, победив чувство стыда и гордыню, прийти к тебе, недругу, исполненному презрительного неприятия. Я это сделал и благодарен себе, что сделал. Благодарен ли мне ты, не имеет ни малейшего значения. Оценить это могу только я. Уходи прочь, незачем меня перебивать. Да что ж это такое! Прочь!.. Сколь же много чудесных часов я с той поры провел с тобою. Неожиданно нашел тебя славным, любящим, заботливым. По-моему, радостное блаженство пылало на щеках у нас обоих. Мы с тобой – ты как художник, я как зритель и комментатор – бродили по лугам на широких горных склонах, купаясь в благоухании трав, в росе свежего утра, в зное полудня, во влажном, влюбленном солнечном закате. Там, наверху, деревья наблюдали за нами, а тучи сгущались, конечно же от досады, что не в их власти разрушить нашу новоиспеченную любовь. Вечером мы возвращались домой, вконец разбитые, запыленные, изголодавшиеся и утомленные, а потом ты вдруг уехал. Черт знает почему, но я еще и помогал тебе с отъездом, будто меня обязывали к этому карманные деньги или мне не терпелось спровадить тебя с глаз. Конечно, я искренне радовался, что ты уезжаешь, ведь перед тобою открывался большой мир. Но как же невелик этот большой мир, братец.