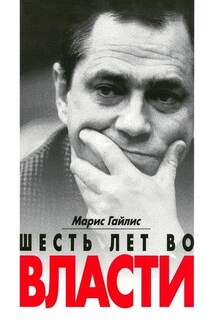Шесть лет во власти - страница 24
В Министерстве иностранных дел
Насколько мне известно, в Министерстве иностранных дел Советской Латвии работало не более десяти человек. Излишне говорить, что в их «активной» деятельности не было ничего общего с иностранными делами в их общепринятом понимании. Поэтому фактически это министерство надо было создавать с нуля. Вначале там было 20—30 сотрудников, а с присоединением Департамента внешнеэкономических связей штат возрос на 35—40 человек. Было создано первое посольство в Москве, обрели новое дыхание уже действовавшие в Лондоне и Вашингтоне. Работа стала набирать свои обороты, требовалось сразу много сотрудников, а возможности подготовить их подобающем образом не было никакой. Нормальная практика в этой сфере такова: дипломат готовится на протяжении многих лет, он должен пройти все соответствующие ступени. Нам же нужны были сиюминутно и послы, и советники, и секретари всех рангов, а также атташе. Как правило, тогда мы вынуждены были поступать так: знаешь языки, три месяца поработай в министерстве, если подходишь – то за дело, вперед! Послов, естественно, подбирали более тщательно: это были или представители эмиграции, или кто-либо из известных творческих работников.
Понятно, что в самом начале никакой концепции внешней политики у Латвии не было. Но Верховный Совет ее потребовал, и мы ее создали. Мартиньш Вирсис был автором политической части, мне пришлось отвечать за экономическую. С помощью Мары Симане и Виты Терауде мы старались свою экономическую часть фундаментально аргументировать: каковы наши цели, чего хотим достичь и каким путем. Как я уже упоминал, ведь даже о таком институте, как ГАТТ, в Латвии тогда мало кто слышал. Создавая свою часть, мы невольно весьма основательно задели политическую часть М. Вирсиса, потому что она главным образом состояла из лозунгов такого типа: «Надо установить хорошие отношения с Германией, Францией» и т. д. Пришлось общими усилиями переработать всю концепцию, и в той редакции, которую получил Верховный Совет, уже была четко указана цель: вступление в ЕС.
Смею утверждать, что вообще роль Мартиньша Вирсиса во внешней политике была значительна. Он пришел в Министерство иностранных дел заместителем Я. Юрканса и оставался в этом статусе до того времени, когда мне пришлось возглавить правительство, тогда он был назначен послом в Австрию. Признаюсь, что в этом назначении или, как в подобном случае принято говорить, «ссылке», есть и моя заслуга, потому что отношения с М. Вирсисом складывались у меня не самым лучшим образом. Внешне это никак не проявлялось. Тогда, когда работали вместе – с конца 1991 года до выборов в V Сейм – между нами (а были мы на противоположных полюсах) было довольно сносное сосуществование, ибо статус у нас был одинаков, к тому же сферы нашей деятельности почти не переплетались, поскольку в моем ведении была административная сторона (покупка и ремонт посольских зданий, подготовка людей, вопросы оплаты), в его ведении – чисто внешнеполитические вопросы. Мне кажется, что у М. Вирсиса весьма своеобразный характер. По образованию он историк, и нельзя понять, то ли по своему характеру он выбрал эту профессию, то ли, напротив, профессия сформировала его характер. Для него типично то, что он не решает вопросы открыто, в дискуссиях, но исключительно в кулуарах, часто прибегая к такой, как я уверен совсем не мужской, манере общения, как нашептывание. Интересно было наблюдать, как М. Вирсис совершенно не мог спокойно высидеть все время заседаний правительства: он то и дело выходил и входил, время от времени к кому-нибудь подходил, говорил что-то ему на ухо, отходил. Признаться, было это неприглядно, хотя, возможно, и не было интриганством. С Я. Юркансом у М. Вирсиса были вполне нормальные отношения. При Г. Андрееве влияние М. Вирсиса возросло, особенно после выборов, когда я перешел на работу в Министерство государственных реформ. Кстати Г. Андреевс не принял на мое место предложенную мной кандидатуру Мартиньша Лациса, который ныне работает в посольстве Латвии в Канаде, он взял молодого, многообещающего, но, тогда еще недостаточно зрелого для этой должности Мариса Риекстыньша. Вот тогда-то министерство полностью и перешло в руки М. Вирсиса. Сразу же резко изменилась в Министерстве иностранных дел атмосфера: М. Вирсису всюду мерещились тайные дела и заговоры, активность зарубежных спецслужб, из-за чего все говорили полушепотом. Наверное, это все же что-то параноидальное. Работая в Министерстве иностранных дел, я всегда старался любой вопрос рассматривать коллегиально, а при М. Вирсисе такого больше не было. Существенные вопросы: о командировках, назначениях, поездках на учебу решались теперь не коллегиально, а за закрытой дверью того или иного кабинета. Когда я уже стал премьер-министром, мне пришлось четко ощутить скрытое противодействие. Понятно, что явное или завуалированное соперничество между министром иностранных дел и премьером имеется всегда. Я не мог особенно много времени тратить на внешнюю политику, но все-таки хотел, чтобы с моим мнением хотя бы считались. И, в конце концов, после того, как Эгил Левитс стал членом Европейского суда по правам человека, естественным было решение о назначении М. Вирсиса послом. Небезынтересен тот факт, что в последнее время с радостью для себя я не раз слышал хорошие отзывы о деятельности моего преемника Мариса Риекстиньша в должности государственного секретаря, уверен, что в этом есть своя закономерность.