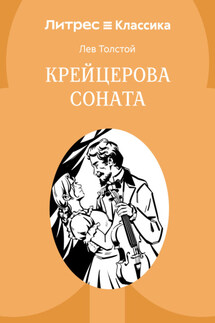Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 32
Таким образом, право помещается в действие как в свой источник и свое истинное содержание. Ибо форма права – не просто внешняя форма и не только значимый символ; она есть методологическое средство для нахождения, обнаружения, создания права. Это двойное значение имеет действие как actio: оно одновременно есть и действие, и судебное разбирательство.
Таким образом, мы постигаем внутренний смысл, присущий юридической технике, и благодаря этому учимся понимать методологическую ценность правоведения. Эта методологическая ценность относится не только к государственным наукам; скорее, она распространяется на науки о духе вообще, а значит, и на этику. И возникает вопрос о соотношении, которое следует установить между правоведением и этикой в отношении наук о духе. Этот вопрос имеет основополагающее значение для методологии самой этики.
Из логики мы знаем, как она связана с математикой. Правда, и у математики есть общие предпосылки, которые коренятся в самой логике. Но для построения и развития даже этих основ логика зависит от математики. Это мы сразу же поняли в суждении о происхождении. Таким образом, существует явное взаимодействие между логикой и математикой. Логические мотивы, присущие математике от рождения, разрастаются в ней так содержательно, что логика в определении своего собственного содержания становится зависимой от этого содержания. Ведь это остается духом ее духа, который там стал плотью и который она должна встроить в свою суть как новое духовное содержание.
Подобным же образом обстоит дело с соотношением этики и правоведения: этику можно рассматривать как логику наук о духе. Она имеет своими проблемами понятия индивида, всеобщности, а также воли и действия. Вся философия зависит от факта существования наук. Эта отсылка к факту наук представляется нам вечным в системе Канта.
Аналогом математики здесь выступает правоведение. Оно может быть названо математикой наук о духе и, в особенности для этики, ее математикой.
Если эта мысль подтверждает свою методическую правильность, то перед этикой открывается надежная основа для определения и обоснования понятия о человеке, которое составляет её проблему. Тогда область человека освобождается от той неуверенности и неясности, которыми она неизбежно должна быть отягощена, если её преимущественно связывают с религией, где отношение человека строится к другому, более фундаментальному понятию. Здесь же речь идёт исключительно о человеке. И то, что речь идёт также о людях, не составляет противоречия и противопоставления; напротив, само понятие человека требует людей.
Общепринято видеть слабость этики в том, что она не может опереться на поддержку науки. Поэтому выражение «моральная уверенность» имеет пренебрежительный оттенок. Отсюда, если не обращаются принципиально к религии, прибегают к психологии морального чувства или к эстетике нравственного переживания; от науки же отказываются. В лучшем случае радуются, если впоследствии удаётся получить некоторое подтверждение этических предположений. Даже Кант, который искал и требовал аналогичного математике факта, не нашёл его в науке. Он отделял учение о праве от учения о нравственности и устанавливал для каждого особые метафизические начала.
Последнее, возможно, и не лишено целесообразности, поскольку философия права как дисциплина должна заниматься полным раскрытием и развитием проблем и понятий права. Но если систематическая связь философии права не может ограничиваться логикой, если она, напротив, на каждом шагу сталкивается с проблемами и понятиями этики, то становится понятным, что философия права в большей или меньшей степени осознанно строится и утверждается на основе этики. Ведь это древняя связь позитивного права с естественным правом, которая постоянно пробивается наружу. И как бы ни оспаривали естественное право или даже полагали, что можно заменить его «правильным правом» (как Кирх), такие нападки лишь укрепляют разумное право, присущее идее естественного права (не говоря уже о его реализации), делая его ещё более убедительным. Нравственная, можно сказать, священная ценность этого всемирно-исторического принципа становится тем яснее и весомее, чем сильнее против него выступают.