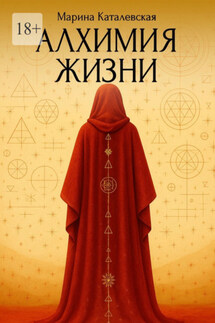Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 50
Это понятие, со всеми его сложностями и трудностями, которым и определяется воля. Оно ни в коем случае не является непосредственным фактом природы, подлежащим анализу. Но если речь идёт о совокупности концептуальных моментов и об их объединении в единое понятие воли, то становится понятным, что закон непрерывности может вступить в силу при этом формировании понятия воли – если, конечно, непрерывность не ограничивается лишь математикой и физикой.
Различие в рассмотрении воли, которое должно проводиться этикой, в отличие от психологии, заключается в учёте понятия действия. Для этики не может и не должно существовать хотения, которое не осуществляется в действии. Как бы ни было необходимо исследовать источники возникновения воли и прослеживать её развитие, нельзя ограничиваться только этим; нужно столь же внимательно следить и за её завершением. Без исхода, к которому приводит хотение, нельзя признать само хотение. Так называемое намерение и умонастроение ускользают от человеческого понимания.
Как бы ни был врождённым и унаследованным тот или иной импульс, он всё же не может быть признан источником и основой воли в том смысле, в каком её требует этика. Вся эта психология относится к метафизике вещи в себе, которая предлагает загадки мира как загадки, чтобы затем представить их разрешимыми в загадочных словах. Этика не отделяет начало хотения от его конца. Поэтому для неё воля и действие неразрывны. Это уже первый признак значения непрерывности для этики воли.
Но её влияние простирается дальше. Уже в самом хотении обнаруживается почти необозримое множество и разнообразие элементов и зачатков, которые, по-видимому, восходят к импульсивным движениям. И когда из этого хаоса всё же возникает действие, те же препятствия здесь лишь возрастают. К кипению влечений добавляется смешение и путаница мыслей и представлений. Как же при этом может возникнуть единство действия, которое, тем не менее, требуется – без которого понятие действия не может состояться?
Именно здесь закон мышления о непрерывности окажет этике свою помощь. И здесь суждение о происхождении, равно как и о реальности, проявит свою действенность – действенность и полезность. Ибо, конечно, это отголосок логики, от которого этика здесь извлекает пользу. Но это её право и её задача. Так требует основной закон истины.
Мы не будем углубляться далее в изложение этой связи происхождения, реальности и непрерывности с понятием воли, так как это означало бы забегать вперёд в раскрытии этого понятия. Отметим лишь ещё один момент, поскольку он связан с проблемой истины. В воле, особенно в действии, момент движения составляет главную трудность. Воля считается чем-то внутренним; и как бы её ни сводили к зачаткам и импульсам, их рассматривают как сокровеннейшие движения души.
Отсюда могла возникнуть и стать основой мировоззрения – и как таковая вновь и вновь возрождаться – мысль, что воля и интеллект суть одно и то же. Действие же обращает внимание на различие. Поэтому его не считают неотъемлемой частью воли, если стремятся к их отождествлению. В действии движение распространяется вовне. И это движение нельзя понимать лишь как внутреннее, подобно тем зачаточным импульсивным движениям, ибо оно прямо направлено на внешнее и на внешнее выражение. Тем самым оно раскрывает противоположность, заложенную в воле.
Эта противоположность превращается в противоречие при господствующем взгляде на понятие движения, согласно которому движение принадлежит материи: Matter and Motion; тогда как только мышление характеризует сознание. Поэтому если в действии, а значит, и в воле совершаются движения, возникает серьёзное сомнение, не материализуется ли тем самым воля. Или же сомнения не возникает, и из этого делают вывод не только о несостоятельности различия вообще (что нас здесь не должно беспокоить), но и о его нерелевантности для понятия воли. Однако такое следствие лишь сыграло бы на руку психологическому предрассудку; ибо для этики вряд ли было бы безразлично, может ли действие быть приведено к единству из столь разнородных элементов, как материальное движение и абстрактное мышление.