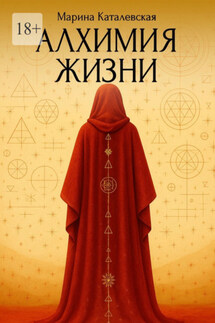Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 49
Но на этой естественной психологии нельзя останавливаться – и не останавливались. Мы уже отмечали, что Платон создаёт и развивает свою психологию как в этике, так и в логике – равно в характеристике воли, как и в характеристике мышления и познания. Нам предстоит проследить, как метод чистоты должен порождать понятие воли – чистую волю. Чистая воля соответствует чистому мышлению, мышлению чистого познания.
Здесь остаётся обсудить лишь один важный предварительный вопрос. Он касается нашего основного закона истины – а именно единства метода для логики и этики. Можно ли ожидать и предпринять применение метода к предполагаемому психологическому материалу – чистой воле, как и к основным определениям чистого мышления?
Этот вопрос методологически решающий: проблема этики как этики чистой воли зависит от него. Но он же положительно приближает нас к реализации. Смело поставим же вопрос: можно ли применить к этике чистой воли основные понятия, которые логика выделяет для мышления чистого познания?
Логика осуществляет и обосновывает чистоту в конечном счёте через суждение о происхождении. Происхождение – это глубочайшая якорная почва, которую закрепляет чистое мышление. Ничто не должно считаться данным для чистого мышления; даже данное оно должно порождать само. Даже «что» (как «нечто») не может быть для него последним словом понятийного языка. Оно не должно отступать перед ничто. Само по себе ничто остаётся немыслимым, но как средство чистого мышления оно признаётся. Это обходной путь, который мышление вынуждено пройти, поскольку оно не может остановиться на «нечто». Чтобы добраться до основы «нечего», от него самого как последнего основания отвлекаются.
Ведь даже бытие становится всего лишь словом, понятием отношения. За основу бытия вступает другая категория. Неудивительно, что «нечто» не может стоять в начале – так же, как и бытие. Поэтому и парадокс, который в нашей характеристике образует бесконечное суждение, не должен вызывать серьёзного возражения. Ведь это то самое суждение, в котором, несмотря на кажущуюся игру с ничто, выражается принцип непрерывности.
Но здесь возникает действительно трудный вопрос: можно ли считать закон непрерывности применимым к этике? Пусть даже происхождение окажется мыслимым для чистой воли – это, по крайней мере, допустимо. Пусть даже реальность сама может быть представлена как применимая для реализации чистой воли – главный вопрос остаётся: может ли закон мышления о непрерывности быть применён к воле, а значит, и к этике? Возникает подозрение, что здесь речь идёт лишь о пустой метафоре.
Ведь непрерывность – нечто совсем иное, чем тождество. Тождество, как бы ни обусловливало оно чистое мышление, может быть перенесено на чистую волю, ибо и в ней присутствует мышление, которое нельзя устранить. Непрерывность же должна была бы применяться к самому хотению, если это хотение, согласно непрерывности, должно порождаться из своего происхождения и тем самым становиться чистым хотением. Здесь возникает опасность, что математическая полноценность непрерывности может быть дискредитирована, если это понятие будет злоупотреблено в этике как историческая метафора – сколь бы полезной оно ни было для исторического словоупотребления. Метод чистоты, основываясь на истине, требует строгого соблюдения смысла непрерывности.
Это сомнение в применимости принципа непрерывности к этическому понятию воли основывается, однако, на недостаточном понимании этической проблемы и её отношения к понятию воли. Иными словами, здесь проявляется психологическая предвзятость, под прикрытием которой это возражение укореняется. Считается, будто психология и только она должна разрабатывать понятие воли; и полагают, что не будет буквально верным, если психология не имеет (компетенции), да и повода говорить о воле – о воле, а не о влечении и желании – если только этика не раскроет это понятие.