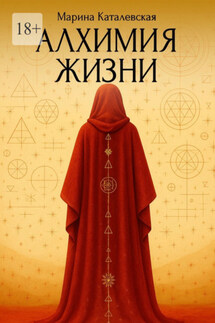Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 47
Таким образом, понятие закона колеблется в этике со времен софистов – как под влиянием политики, так и не в меньшей степени религии. Действительно, догматика закона не менее запутанна, чем догматика объекта и субъекта. Как преходящие блага, даже в человеческой оценке, ошибочно выдаются за нравственные, и как душу, по аналогии с итальянцем эпохи Возрождения, полагают возможным посадить на стул, чтобы утвердить в ней нравственную личность, – так же словом закона отпугивают не только сомнение, но и обоснование. И в законе продолжает действовать не только установление, но и нечто твердое и неизменное, что придает закону догматический оттенок. Этот догматизм есть натурализм и эмпиризм в этике, как и в логике.
Логика чистого познания вновь открыла платоновскую основную мысль, что все основание бытия не должно приниматься и искаться в данных самих по себе основах, а в основаниях. Идея есть гипотеза. Это единственно адекватная характеристика и обозначение идеи. То, что она означает субстанцию, что она означает истинное бытие, – это не то значение, которое свойственно именно Платону. Это он заимствовал у Пифагора и Парменида. А то, что она есть понятие, – и в этом отнюдь не заключается последнее определение Платона. Это он, скорее, взял у Сократа. Оригинальность Платона состоит исключительно в характеристике идеи как гипотезы.
То, что самостоятельная, то есть изолированно развивающаяся история философии не смогла обнаружить этот термин в платоновских словах и ввести его в центр его учения, – симптом ее поверхностного состояния. И все же великие умы математического Возрождения – Коперник, как и Кеплер, – вытащили его как подлинный якорь. Но и здесь произошло то же, что и с законом. Гипотеза также колеблется в своем значении.
То она исходный пункт и основа теории, то она не намного больше, чем предположение. И здесь догматизм как натурализм и эмпиризм составляет корень предрассудка. Всякая теория, всякий закон не может иметь иного основания, кроме того, что закладывает обоснование. И не может быть иной уверенности и достоверности, кроме той, что заключена в обосновании. «Опора гипотезы» (τὸ ἑδραῖον ὑποθέσεως) – так Платон сам удостоверяет свою гипотезу. И все же она зависит от согласия с явлениями, от успеха, которого она может достичь для связного объяснения явлений и проблем. Если она не достигает этого успеха, значит, она не оправдала себя как гипотеза; но отдельный пример гипотезы не может поколебать ее ценность. Гипотеза, поскольку она соответствует своему понятию, обладает уверенностью и достоверностью. Другой достоверности не существует.
Таким образом, понятие гипотезы разрушает предрассудок закона для познания природы, предрассудок естественного закона. Не менее запутывающим для всей проблемы этики является это ложное представление о законе в нравственном законе.
Мы можем отвлечься от повеления внешней власти; в этом заключается меньшая опасность. Ибо если Бог, как в монотеизме, мыслится как добрый Бог, как Бог добра, то пусть он повелевает; ведь он может повелевать только добро. Тогда остается лишь методологическое различие между наукой этики и религией, которая должна была бы стать наукой, поскольку хочет учить, что есть нравственность, – но не обладает методологией обоснования, необходимой для обучения, и не может ее усвоить. В остальном же смысл божественного закона отнюдь не представляет наибольшей опасности для понятия нравственного закона.