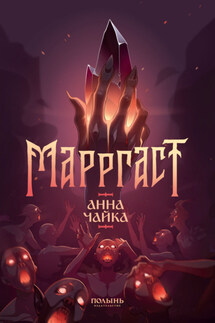Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 67
Так тенденция сохраняет связь с чистым мышлением. Но в то же время она снова поворачивает в направлении аффекта. Это перенаправление поддерживается предвосхищением, которое хотя и действует уже во времени, но имеет особую значимость для вожделения, так что кажется, будто оно переносится на время именно от него. Однако если вожделение обозначает неочищенную проблему – подобно аналогичному понятию ощущения – то аффект прокладывает путь необходимому очищению вожделения до воли, тогда как тенденция могла бы мыслиться лишь как очищение двигательного мотива вожделения.
Аффект должен утвердить этот, казалось бы, чувственный элемент как чистый. Чистота должна прояснить различие, которое необходимо установить между вожделением и волей, а значит, и аффектом, – ведь в этом и заключается вся проблема воли. Это различие сводится к противопоставлению всему данному как таковому. Вожделение направлено на вещь – будь то пища, владение или господство. Воля же, поскольку она чиста, согласно и в силу метода чистоты, должна сначала создать себе все свое содержание.
Среди понятий на теоретической стороне обоснования воли мы отличаем намерение от умысла, причем так, что умысел относится скорее к стороне мышления, тогда как намерение должно склоняться к стороне аффекта. Но и намерение, как и аффект, должно служить решающему интересу всего различения и исследования. Намерение не должно позволять навязывать себе содержание. Можно подумать, что мышление все же должно иметь право направлять намерение. Конечно, оно должно; но это руководство не следует понимать так, будто мышление может предлагать аффекту лишь теоретическое содержание; содержание аффекта, а значит, и намерения, как бы глубоко оно ни было продумано, может быть только практическим, только содержанием воли. Поэтому намерение должно сохранять свой аффективный характер даже для чистого созидания своего содержания.
Этот двойной смысл намерения, в единстве которого, впрочем, заключается ценность понятия для этической характеристики, должен быть выражен у нас термином «задача». Задача изначально противостоит данному; она сама содержит данное, она его составляет. Так задача служит чистоте. Содержание становится в ней чистым содержанием. Задача может по-прежнему относиться к внешней вещи; но это отношение может быть лишь внешним, лишь переносным. Разве что изначально должно быть ясно, что внешняя вещь может командовать аффектом и навязываться ему. Задача относится, скорее, преимущественно к внутреннему миру этих стремлений и тенденций, в котором только и может осуществляться.
В логике мы привлекали понятие задачи и для общей характеристики мышления в суждении, но также и для взаимодействия методов, которые в чистом мышлении дополняют друг друга, так что ни один из них не может завершить свой ход, а всегда должен, так сказать, на полпути уступать место другому. Таким образом, мышлению ставится своего рода практическая, волевая задача. Ибо задача принадлежит преимущественно сфере воли. И она делает ясным, что аффект обрабатывает лишь собственное, самому себе предложенное содержание.
Кажется, будто тенденция в своем движении хочет лишь продемонстрировать себя, измерить свою силу и свой источник, чтобы увидеть, насколько они неисчерпаемы. Если задача все же проявляется в предмете, то пусть он будет лишь средством для демонстрации этой собственной ценности аффекта. Ведь психологически нам тоже очень хорошо известно и ясно, что определенное содержание, точно продуманное или хотя бы ясно представленное, может казаться полностью отсутствующим, тогда как аффект, как его обычно понимают, проявляется в резких скачках и потрясениях – словно играет сам с собой. Настолько мало, кажется, значение имеет сам предмет как содержание. Это устранение внешнего предмета вытекает и объясняется под знаком задачи.