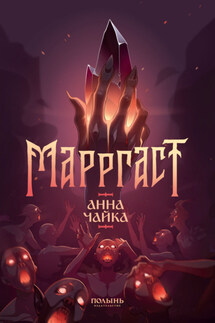Система философии. Том 2. Этика чистой воли - страница 68
Что же тогда является содержанием аффекта, если задача устраняет внешний предмет? Этот вопрос должен быть ограничен для понятия содержания самим аффектом, а не распространяться на мыслимое, то есть зависящее от мышления содержание воли. В качестве содержания аффекта сама задача остается единственным и полным содержанием. Сама задача есть одновременно и ее исполнение – но, конечно, не ее завершение. Последнее зависит от других обстоятельств, прежде всего от мышления. Но переход от тенденции к тенденции, от задачи к задаче исключает завершение – по крайней мере, согласно понятию этого перехода. Завершение этого движения было бы завершением тенденции и аффекта, угасанием истока воли. Завершение задачи было бы ее уничтожением. Только в движении задач задача может одновременно находить исполнение и решение. Задача делает аффект рефлексивным и имманентным, но в то же время – как вид и направление сознания – суверенным и чистым.
Все это обоснование чистой воли в чистом аффекте противоречит воззрению, которое со времен софистики не могло быть опровергнуто, хотя уже Платон направил против него решающие аргументы. Сегодня, как и тогда, в основу воли ставится чувство удовольствия и неудовольствия. Мы немедленно вступаем в обсуждение этого вопроса, поставив исторический предварительный вопрос: как вообще можно понять и осмыслить, что эта точка зрения не могла быть поколеблена? Буквально нельзя даже сказать, что аргументы, методические понятия и формулировки существенно изменились. Они остались в основном теми же в психологии, но особенно – в этике. И именно эта устойчивость приводит нас к ответу на исторический вопрос.
Кант обозначил всю моральную философию, поскольку она основывается на удовольствии и неудовольствии, как эвдемонизм и эгоизм. Однако этим ответ на наш вопрос дан лишь наполовину. Ибо вопрос продолжается: как понять и осмыслить, что только Кант смог возобновить эту оппозицию против всей прежней морали, тогда как Платон уже с полной ясностью и энергией провел это разделение? Неужели, несмотря на всю религию, ничего в мире не изменилось, так что софистика смогла сохранить господство? Или, быть может, моральная философия – не софистика, даже если она эвдемонизм и эгоизм? Ведь разница между философией и софистикой заключается не в чем ином, как в обосновании познания всякого рода в чистом мышлении, а не в удовольствии и неудовольствии.
Таково различие, которое Платон в конце «Филеба» обозначил яркими и пламенными словами: с одной стороны стоит философская муза, с другой – быки, лошади и все животные, за которыми следует толпа в убеждении, что удовольствия суть сильнейшие путеводители в жизни. Они следуют за ними, как птицы за предсказателями. Даже Кант не сформулировал этот лозунг более проникновенно и убедительно. Как же могло случиться, что эпоха софистики, хотя и изменила свои девизы, в самой глубине, в сохранении удовольствия как путеводной звезды человеческой жизни, не была преодолена и не утратила господства?
Если бы мы захотели ответить на этот вопрос сейчас, то совершили бы грубейшую стилистическую ошибку: мы бы забежали вперед, предвосхитив собственное содержание этой этики. Ибо у этой книги не было бы собственной, новой проблемы, если бы она не была заострена на этом вопросе, и если бы на его основе она не попыталась подойти к новой проблеме и новому решению этики.