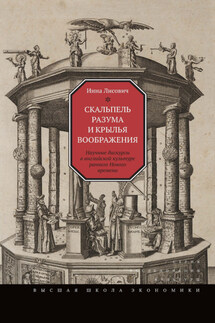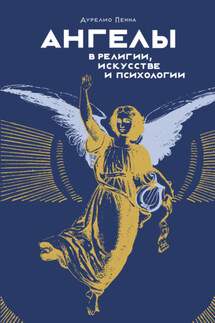Скальпель разума и крылья воображения. Научные дискурсы в английской культуре раннего Нового времени - страница 70
Манифестация «ясности» через сближение с математической логикой, как и «затемненности» в соединении с «риторичностью» – признак ограничения социальной группы, владеющей специфическим, отличным от доступного многим предшествующего дискурса, поскольку «риторичность» тоже может быть понятной для многих, так же как и математическая логика – понятной для избранных. В предписании говорить на «языке простолюдинов и торговцев» можно усмотреть явное желание отделить свой дискурс как от влияния королевского двора, так и влияния университетской схоластической учености, основанной на средневековой версии методологии Аристотеля. Ученые ЛКО стремились создать альтернативный способ познания, отличный от схоластической дедуктивной систематизации в традиции Фомы Аквинского, благодаря простому индуктивному принципу познания, когда опыт предшествует теории: «Они сделали выдвижение правил и предложений настолько более сложным, насколько их регистры [книги записи опытов] были бы более методичными. Нельзя это пренебрежение связностью и порядком считать происходящим из беспечности. <…> явное стремление свести науки к методу, красоте и форме явно бы осложнило их»[399].
Тем не менее разделение дискурсов не предполагало полной социальной автономии ЛКО, по крайней мере, в момент его создания. Большинство основателей были профессорами университетов или Грэшем-колледжа, хотя и были не удовлетворены своей социальной ролью трансляторов знания для студентов и слушателей Грэшем-колледжа. Связь с двором осуществлялась через основателей, которые были причастны к нему: экономист-придворный У. Петти, чиновник С. Пипс, придворный и дипломат Р. Морэй, которые убедили короля дать им хартию, и таким образом они смогли институционализироваться под его патронажем в 1663 г. Наверное, надо говорить об использовании гибридной модели образования научного сообщества – подчеркнутое равенство, деиерархизация, но постоянное придворное лоббирование и связь с лондонским Сити через Грэшем-колледж.
В XVI–XVII вв. поэзия не только сыграла немаловажную роль в популяризации и распространении научного знания, но и попыталась освоить новый для себя научный дискурс. Поэзия была одним из первых опытов освоения научных дискурсивных практик на национальном языке. Более того, взаимное проникновение дискурсов привело науку к необходимости сформировать и ограничить свое речевое коммуникативное пространство, дискурс которого бы гарантировал точность передачи, достоверности и сохранения научного знания, что проявилось в декларации Лондонского королевского общества: «Одно слово – одно значение». История взаимоотношений членов Лондонского королевского общества и Маргарет Кавендиш, которая была первой женщиной, посетившей ЛКО 30 мая 1667 г., позволяет увидеть степень совпадения/несовпадения притязаний науки и поэзии на истинный способ приближения к знанию, и на форму его публичной репрезентации. Герцогиню Ньюкасл ученые принимали как возможного патрона, а не как научного оппонента, и визит оставил за ней среди ученых прозвище «безумная Мардж».