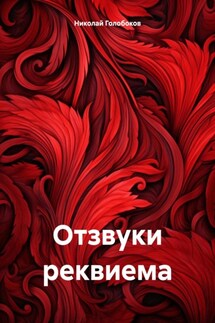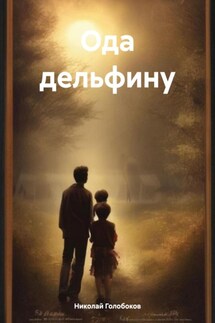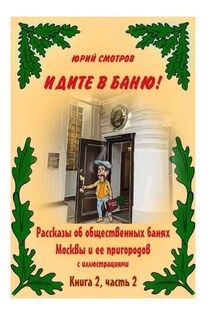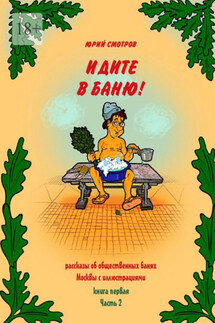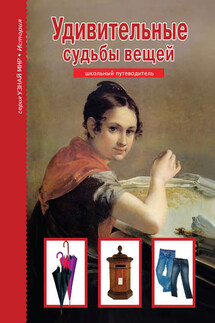Сказания о недосказанном - страница 98
И вот. Жили мы тогда на Арабатской стрелке, деревня называлась Счастливцево. Или как мы её звали-величали Счастливка. Правда я и сейчас, спустя много десятилетий, не могу сообразить, за что так посмеялись над жителями этой песочной косы, которую вечно, днём и ночью пронизывали, как самум в пустыне – ветры. Рассказывали поселенцы этой почти земли, как часто веяли, дули, – дул, Федул, который губы надул, ветрами, с моря, и песок засыпал глаза, а ещё хуже, с сиваша, тухлым, был ветерок, совсем не освежал душу и тело, но говорили целебным сероводородом. Какой там водород, может сероводород, когда тухлый ветер дует в рот. Счастья, что – то не порхало в наших домиках. Не мозолило наши умы назойливым приставанием – Яаа! Счастье, бери меня. Греби обеими руками…
Четвёртый, пятый класс – мы почти регулярно появлялись в школе, и учились, тоже, почти исправно, но вот лето. Ах, лето! Море рядом, виноградники сколько душе угодно. И мы старались. Нам море по колено и мелкие, тёплые песчаные пляжи принимали нас без всякой такой мзды, да и, за что…
А бахча – арбузы и виноград, шептали, нашёптывали, сердечно, так сердечно – своими гроздями и бликами, – ну заходи, ну обними, ну поцелуй и покуштуй, проглоти … хоть одну гроночку глюкозы, очень уж манил, душевно так.
Но самое глупое, мы это точно знали и чувствовали, было то, что умники колхозного правления, почемуу, решили бахчу и виноградник со скороспелкой, сорт такой был, решили устроить у самых окошек правления, где сидели уважаемые, как мы их тогда величали, конторские крысы. Потому их недолюбливали. Взрослые говорили, что у них …был перископ. И точно! Мы только приближались своей командой поближе к бахче и скороспелке, они уже орали во всю глотку наши фамилии. Хотя по всем правилам послевоенного времени, играли в войнушку и знали, что такое разведка и окружение вражеской позиции скрытно и с трёх сторон.
А во всём, как оказалось позже, были виноваты, трусы-рейтузы. Ух, её, эту маа ми нуу – фактуурру, – мануфактуру…
Мама наша купила себе, эту драгоценность на платье и, конечно пошла к мадистке – швее. Так их тогда величали. Платье ей сварганили на загляденье, ещё остались обрезки, кусочки, клинышками такими. С этих- то объедков – огрызков от маминого платья – устроила нам подарки.
Платье, праздник, тогда в те времена шили – перешивали – перелицовывали старьё, на новьё и снова носили, – ноовое… Она, наша мама, ещё была моложавая, в этом платьице совсем помолодевшая, – красное с белыми горошинами нарядная, хоть на свадьбу.
Иди. Красуйся. Почти невеста. А нам? Горе. Горе неописуемое – чаще описюемое…красовались своими горошинами по всей деревне, смеялись все, кроме нас. Нам же было не до смеха. Кошке игрушки, а мышкам слёзки. Куда не сунемся, знают, кто, куда и зачем. Мы превратились в светящийся красный семафор в наших драгоценных трусиках.
Стоял такой в карьере, где добывали песок – ракушку и этот прародитель светофора с красным глазом орал – стоять! Хода нет и паровоз, вперёд не лети. И, никакой остановки! Он, паровоз с тремя вагончиками стоял и ждал, когда это чудо дореволюционной эпохи поднимет свою рогулю с лепёшкой на конце и погаснет красный глаз как у бешеного быка-производителя. А нам то, с братом каково с красными светофорами на самой попе и не чужой. А маме нашей всегда докладывали все соседи и вся улица. Маршруты заносились в память книги штрафов и предупреждений.